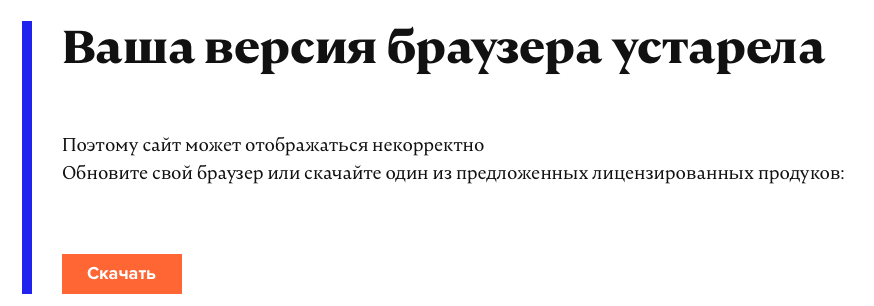Ирина Антонова: Человек готов на все — даже закрыть собой амбразуру, а добра в нем мало!
В Москве с воинскими почестями проводили в последний путь женщину, ставшую символом российской культуры. Ей было 98 лет!
Сегодня, 4 декабря, на Новодевичьем кладбище Москвы простились с искусствоведом Ириной Антоновой. Сначала обычный научный сотрудник, потом директор и президент легендарного Пушкинского музея — про нее говорили, что она напоминает Маргарет Тэтчер, сплав женского обаяния, «металла» и потрясающей целеустремленности! Однако мало кто знал, что 60 с лишним лет она умудрялась опекать еще и своего особенного сына, и никогда не жаловалась, как ей тяжело. Только переживала: что же с ним будет, когда ее не станет? «Совесть, благородство и достоинство», — так говорят про Ирину Александровну сегодня. А что рассказывала о себе она сама?
«Я думала, музей — это ненадолго»
«Когда я пришла работать в музей, сказала себе: «Долго я здесь не задержусь!» Я любила искусство, но в 1945 году он был пустой: картин на стенах не было, стояли ящики, еще не распечатанные. Только холод и весьма пожилой персонал — многим тогда было лет по 50. Я подумала: «Неужели они будут моими подружками? Какой кошмар!» А позже поняла: я никогда не уйду отсюда сама, добровольно!
«Малевич показал нам, что все закончилось»
«Ко мне часто подходят простые люди и просят объяснить им «Черный квадрат». «Неужели вы сами не понимаете? — спрашиваю я. — Это полное отрицание. Малевич говорит нам: «Ребята, пошли домой, все закончилось». — «Но ведь что-то там брезжит?» Я отвечаю: «Ничего не брезжит! Это черный квадрат, полное ничто. Малевич показал нам, где точка».
«В будущем лишь редчайшие люди смогут наслаждаться литературой и искусством»
«Что будет с искусством? Я думаю, что власть технологий приведет к тому, что все будет исчерпываться получением информации. Но будет ли уметь человек грядущего читать глубину, понимать суть, особенно там, где она не явна? Или он не увидит ничего, например, в суриковской «Боярыне Морозовой», кроме фабулы: на санях увозят женщину, поднимающую свой знак веры, а кругом народ. Но почему сани идут из правого угла в левый верхний? Между тем это не просто так — Суриков долго над этим работал и почему-то сделал так, а не по-другому. Будут люди задумываться над тем, почему тот или иной портрет профильный, а не фасовый? Или почему, например, фон просто черный?
Чтобы содержание искусства было доступно людям будущего, надо смотреть на великие картины, надо читать великие произведения — они бездонны. Великая книга, будучи перечитанной, на каждом новом этапе жизни открывает вам свои новые стороны. Я пока знаю тех, кто перечитывает великие книги. Их еще много. Но все больше будет людей, кто никогда не станет перечитывать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гете, ни Томаса Манна. Понимание поэзии тоже уходит. Думаю, в будущем только редчайшие люди будут наслаждаться строками «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

«Я вроде интеллигент, а руки не опускаются»
«У меня есть одно «неинтеллигентское» качество. Я, конечно, претендую на то, чтобы меня называли интеллигентом. Я не подвержена депрессиям, а хороший интеллигент обязательно должен быть депрессивным. Он должен вдруг впадать в отчаяние. Это не значит, что я не огорчаюсь, просто руки как-то не опускаются!»
«Легко критиковать чужие шаги, сидя на лавочке»
«В России считается хорошим тоном, что люди искусства дистанцируются от власти и держатся от нее в сторонке. Но мне такая манера поведения никогда не была близка.
И прежде не молчала, тем более угодливо не поддакивала, если точка зрения руководства не совпадала с моей. Легко отстраниться и потом критиковать чужие шаги, сидя дома на кухне или на лавочке у подъезда. А ты попробуй сказать в глаза! Роль наблюдателя или стороннего комментатора не для меня. Никогда не выступала в таком качестве, всегда была участницей. Иначе неинтересно жить. Это внутренняя позиция, идущая от природного естества. Да, проще уклониться, но так ведь нехорошо, некрасиво. Гораздо честнее говорить, что думаешь».
«На земле меня держит только сын»
«У меня два дела, и одно связано с моей личной жизнью. Я абсолютно одна — в том смысле, что у меня никого нет, кроме сына Бориса. Муж умер в 2011 году. Мы жили с ним 64 года. Большой срок. Да… А теперь остался только сын. Он у меня — инвалид детства. Это навсегда. И он живет только со мной. Никогда, ни в каких учреждениях не содержался. Не потому, что я не хотела его отдавать. Меня поймут люди, у кого есть больные дети. А потому что… Знаете, мне врачи говорили, что ему это ничего не даст.
В свое время я объездила все государственные учреждения, где содержатся больные люди, и надо сказать, это очень грустная картина. Сейчас появляются новые больницы. И даже неплохие, на первый взгляд, — я их тоже объездила. Но в чем ужас: недолго поработав, они вдруг закрываются. Вроде какое-то заведение понравится, мне обещают, что у них все хорошо, но контингент — ужасный. Поэтому пока могу, я сама ухаживаю за Борисом. Меня на земле держит только он».
«Хорошо, если у человека есть семья, а если никого?»
«То, что сын болен, стало ясно, когда ему было восемь лет. С тех пор мы живем вместе, ему 66. Он — прекрасный человек, но абсолютно беспомощный, целиком зависящий от меня, понимаете. Да, он может читать книжки, он даже читает по-английски, он играет на фортепиано, но он — пятилетний ребенок, понимаете? И это меня ведет, его необходимость, и чем дальше, тем больше. Потому что ему нужно сейчас. А у меня такая жизнь, что все вокруг меня уже померли, — из семьи никого нет, кто бы мог его взять.
Хорошо, если у человека семья, он живет и все такое, а если никого — и он никому не нужен. Что очень важно — никому не нужен! Ну, квартира — еще нужен, денежки нужны, которые есть, а это ничего остального — нет. Поэтому, я думаю, то, что я живу долго, — это, наверное, кто-то помогает мне, понимает, что не все решено!»

«Когда тебе за 90, можно говорить только чистую правду»
«Все, что сверх 70, вроде бы премия, бонус. Как распорядиться этим подарком? Лучше с умом. Обязательная программа закончилась, начинается произвольное катание. И тут в голову приходят всякие мысли, иногда даже неглупые. Появляется глобальное отношение к проблемам, явлениям, людям.
Облетает наносная шелуха, за ненадобностью отпадает выглядевшее прежде существенным и важным, а на поверку оказавшееся фантиком, мишурой. Фильтр становится жестче, требования к поступкам и словам выше. С одной стороны, лучше понимаешь тех, кто думает иначе, нежели ты, с другой — ощущаешь в себе большую бескомпромиссность и определенность. Всем приходится порой хитрить и лукавить, никто не без греха. Но когда тебе 95, можно уже не говорить ничего либо только чистую правду. По-другому нельзя. Какие могут быть игры на краю бездны? Отступать-то некуда…»
«Если Бог есть, почему он допускает столько горя?»
«Я многократно говорила: у меня нет веры. Может, меня так родители воспитали. Потом, это опыт человека, который много живет и много видит. Человека, который привык думать. Сколько на свете горя, зла несправедливости... Кому это надо? Если это разрешает делать Бог, который олицетворяет справедливость и правду, то зачем ему так корежить мир? Для чего?
И вообще, зачем человек рождается с этим набором дурных способностей? Совершать гадкие поступки и творить отвратительные дела? Зачем и кем придумана такая система? Нас уверяют, что Бог всемогущ. Если это так, тогда он же может по-другому мир сложить? Я не понимаю зависимости жизни от кого-то всемогущего».

«Никто еще не возвращался с того света и не рассказывал, как там»
«Есть ли жизнь после смерти? Подобная мысль хороша и утешительна для тех, кто верует. А я не изменила своего отношения к религии. Это нельзя сымитировать, как и чувство счастья. Не получится — фальшь сразу бросится в глаза.
Может, изменила бы мнение, если бы кто-нибудь побывал на том свете, вернулся и рассказал, как там. Хотя бы одного туда послали, обязав возвратиться. Но я таких пока не встречала. Поэтому живу здесь и сейчас. Как, собственно, и все остальные, но каждый вкладывает в это свой смысл».
«Много подвигов, мало добра...»
«Знаете, с чем я ухожу на тот свет и что меня огорчает? Ужасное
несовершенство человека. Он способен на все: закрыть своим телом амбразуру, сделать невероятное открытие, забраться куда угодно. А добра в нем мало».
«Когда я умру, включите Синатру»
«Что у меня вызывает слезы? В музыке они, конечно, чаще. Они неизменны в каких-то местах Шестой симфонии Чайковского или Адажиетто Малера, когда в вас все начинает трепетать. Я вам должна сказать, что такое сердечное стеснение у меня, например, вызывает и современная мелодия — My Way. Кто ее пел первым, а? Этот... американский, знаменитый… А, Фрэнк Синатра! «Мой путь». Вот я бы хотела, чтобы, когда умру, сыграли именно эту мелодию!»