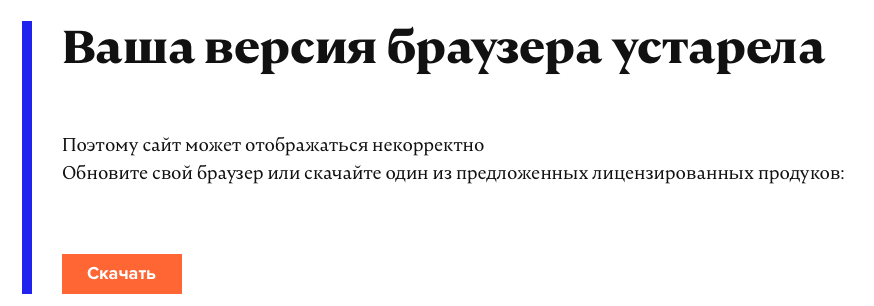«Я научился определять уровень радиации по першению в горле»
Военный химик рассказал, как ликвидировал последствия на ЧАЭС, о чем приврали в сериале «Чернобыль» и каково быть облученным
В воскресенье, 26 апреля, исполнится 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Пожары в регионе подогревают интерес к трагической дате и, увы, высвобождают радиационное наследие разрушенного реактора. Как разворачивались события весной-осенью 1986 года, Daily Storm попросил рассказать военного химика, следившего за работами по ликвидации последствий. На ЧАЭС Александр Самотканов прибыл в должности начальника радиационной разведки оперативной группы Вооруженных сил СССР. Сейчас наш собеседник — полковник в отставке — бережно восстанавливает историю случившегося и развеивает мифы об аварии.
— Александр Александрович, вам сразу стало известно о взрыве на четвертом реакторе? Как развивались события после аварии?
— О трагедии я узнал 27 апреля. Я служил тогда начальником отдела расчетно-аналитической станции Одесского военного округа. Меня вызвал к себе руководитель и сказал: «Саня, собирайся. После майских праздников мы с тобой, наверное, туда отчалим». Ну, всегда готов. Тогда в Советском Союзе патриотизма побольше было, никто даже не пререкался. В итоге сразу после праздников мы на вертолете отправились в Чернобыль.

Мне тогда было 30 лет. Считайте, еще зелененький. Вообще, когда формировались ликвидационные отряды, сильно молодых не брали. Интересовались: дети есть, нет. Если нет, то оставался дома. В основном в Чернобыль набирали добровольцев.
В мае, когда мы «причалили», ситуация была еще непонятной. Тогда мы только начинали разбираться с организационными работами (пожар на ЧАЭС после взрыва продолжался 10 суток. — Примеч. Daily Storm), поэтому я пробыл на объекте недолго, всего четыре дня. Но потом вернулся осенью, уже на месяц, с 13 сентября по 16 октября. К этому времени у руководства появились и стратегические планы, и четкая структура (в середине сентября ликвидаторы приступили к самому тяжелому этапу работ — очистке крыши третьего реактора. — Примеч. Daily Storm).
— А трагедия никак не сказалась на майских праздниках? В 1986-м их отмечали так же, как обычно?
— В Советском Союзе проведение торжеств не зависело ни от каких трагедий, а тем более, если речь идет о майских выходных. Даже в Припяти и то устроили Первомай. И хотя часть населения уже эвакуировали, для показухи праздник состоялся.
— Во время командировки вы успели пообщаться с кем-то из местных? Как они отзывались о произошедшем?
— В Припяти до середины мая оставалось только руководство. Среди жителей никого уже не было. Картина, конечно, открывалась очень печальная: город напоминал планету, где вымерли все люди. Часть грунта была срезана, потом вокруг электростанции стали срезать вообще все. Там был замечательный молодой сосновый лес. После аварии он весь пожелтел, и на картах мы стали называть его Рыжий лес.

Военных поначалу тоже было мало. Порядка 80% сотрудников Вооруженных сил были химики, остальные — МВД и Внутренние войска, которые охраняли 30-километровую зону от АЭС. Что до оценки происходящего, то всем и так все было понятно, никаких секретов здесь нет — человеческий фактор плюс техногенные условия.
— Что входило непосредственно в ваши обязанности, и как выстраивалась работа? Что казалось в то время самым сложным?
— В Чернобыль я прибыл в должности начальника радиационной разведки. Самые тяжелые работы пришлись как раз на осень. Тогда велась очистка крыши третьего энергоблока.
Дело в том, что, когда произошел взрыв четвертого реактора, оттуда выбросило все: и свинцовые защитные кожухи, и радиоактивные вещества, и урановые стержни. И все на окружающие участки. До сентября территорию почистить успели, а вот крыши соседних реакторов оставались нетронутыми. Отходы с них сбрасывали прямо в разрушенную трубу четвертого энергоблока. Очистить крышу было велено до 7 ноября, до празднования Октябрьской революции.

Работали по следующей схеме. Мы, химики, находились в закрытом помещении, а военнослужащие поднимались для очистных работ наружу. Но сперва их нужно было переодеть в защитную экипировку. Ее мы изготавливали из свинца и свинцовой резины: делали свинцовые трусы, шапки, нагрудники, сапоги. Экипировали сотрудников минут 15. Вся одежда весила где-то до 30 килограмм. Получается и так большая нагрузка, а тут еще на крышу надо лезть. Солдаты выходили на одну-две минуты и сбрасывали по 10 лопат отходов. Мы подавали звуковой сигнал и выходила следующая группа.
Самый высокий уровень радиации исходил от урановых стержней — до 10 тысяч рентген в час. При том что смертельная доза для человека — 600 рентген (на местности используется единица измерения рентген в час, в то время как уровень облучения человека измеряется в рентгенах. — Примеч. Daily Storm). Поэтому и работали по две минуты, получали до 10 рентген облучения и тут же уходили.
А вот пожарные, которые в самом начале аварии выехали тушить реактор, о высокой радиации ничего не знали. Около энергоблока ее уровень достигал 2000 рентген в час. Они через 15 минут все там и остались.

— Такая опасная работа не сказывалась на моральном состоянии?
— Было тяжело, но мы все равно старались не падать духом, подшучивали друг над другом. Даже над начальством.
Во время моей службы работами на станции руководил генерал Тараканов. Еще в самом начале командировки он как-то вызвал меня к себя: «Так, Саныч, пойдем с тобой на крышу». Я говорю ему: «Вы что, генерал, с ума сошли! Там какая радиация!» Он: «Че напугался, пошли». Ну мы оделись, все как положено. Саперы сделали проход в стене. Через завалы я вышел замерить радиацию — дозиметр показал 200 рентген в час. Я обратно залетел. Говорю: товарищ генерал, я не пойду, там только у выхода 200! Он мне: «Ладно бояться. Ты помоложе, можешь тут посидеть». — «А вы-то че пойдете? Вам жизнь не дорога?» — «Саныч, надо пройтись». Я согласился, но только на одну-две минуты. Когда мы стали выходить, генерал стукнулся головой о проем. Я говорю: товарищ генерал, вот видите, Бог вас туда не пускает, а вы лезете. Мы посмеялись. Затем вышли на крышу реактора и прогулялись там одну минуту. В некоторых местах показатель превышал 1000 рентген в час. Когда мы вернулись, Тараканов спросил: «Саныч, а у тебя дети есть?» Я ответил, что есть, маленькие. «А у меня уже большие балбесы, мне бояться нечего». Так вы, говорю, поэтому двое свинцовых трусов и надели, что не боитесь.
Было, конечно, опасно, но тем не менее мы не чувствовали себя скованными.
— А были еще какие-то запоминающиеся истории?
— Как-то раз вместе со своими ребятами я приехал на энергоблок. Я им всегда говорил: если что-то сомнительное, не лезьте без меня никуда. И вот однажды они возвращаются из разведки, делаем с них замер, и бах! — высокий уровень радиации. Где их черт носил?! Когда такое случалось, мы выкапывали яму, сбрасывали туда всю одежду и закапывали обратно. Но ребята, видимо, не знали о такой практике. Я им говорю: со мной пойдемте. Пришли к ямам. Я им: раздевайтесь! Они аж обмякли: «Саныч, ты чего, блин?» Чего-чего, расстреливать будем. Ребята обомлели... Но я не стал их мучать, с улыбкой все объяснил и тут же одежду им чистую.
Спустя время отходы из ямы выкапывались и также отправлялись в жерло четвертого реактора. В конце концов его прикрыли саркофагом и превратили в могильник. Гарантия саркофага — до 2006 года, но поскольку у Украины тогда не было средств, гарантию продлили. Сейчас у аварийного реактора новый щит.

— Кстати, работа на электростанции оплачивалась выше обычного?
— Сначала зарплата была та же. Но после майских праздников вышло постановление о перерасчете в трехкратном размере. То есть я как майор получал, к примеру, 250 рублей, но итоговая сумма вышла 750. Я проработал всего месяц, потому что получил облучение в 24,8 рентгена при допустимой норме в 25. Начался лейкоцитоз, и меня отправили в госпиталь.
— Как вы себя при этом чувствовали? Облучение ощущается как-то по-особому?
— Еще как, тем более у энергоблока. Из симптомов — постоянное першение в горле, очень противное. Я даже научился определять по нему уровень радиации: чем сильнее першение, тем выше показатель рентген в час. Как только я его чувствовал, то давал команду «назад». А так, каждые пять дней у нас проверяли кровь на лейкоциты. Когда норма превысилась, меня отправили в госпиталь. Я пролежал там два месяца и больше не возвращался на станцию.
— А были в дальнейшем какие-то проблемы со здоровьем?
— Спустя некоторое время у меня стала увеличиваться щитовидная железа, и я уволился из армии, стал не годен для службы в Вооруженных силах. В 2003 году я вернулся в Россию, в Нижегородскую область. Там меня назначили в военный комиссариат Лукояновского района.
— Вернемся теперь в наши дни. Как вы считаете, насколько может быть опасна ситуация с пожарами в Чернобыле?
— Конечно, это очень нехорошо. Период полураспада урана длится до 200 лет. При пожаре все, что было закрыто деревьями и листвой на земле, вновь поднимаются и развеивается по территории. Уровень радиации в районе 30-километровой зоны и далее повышается. Поэтому тут важно быстро среагировать.
— В прошлом году вышел американский сериал «Чернобыль». Вы смотрели его? Какие у вас были впечатления?
— Мне не понравился. Разумеется, власть что-то скрывала, но в фильме приплели слишком много лишнего. Уж такая большая страшилка вышла, будто все перепуганы и не знают, как быть. Я же приводил пример: мы и шутили, и смеялись. Работали по 12 часов, было тяжело, но я не скажу, что чересчур. Я с большим воодушевлением выполнял свою задачу и не лез туда, куда не нужно. И то, что за все время у работников только один раз брали кровь, это тоже неправда.
Были однако негативные моменты, которые в сериале не показали. Я имею в виду наше русское авось. Сейчас людям говорят: будьте дома, берегите себя, близких. Тогда точно так же инструктировали. Но наше авось… Например, было запрещено ходить без респиратора, но у нас же все герои, ничего не боимся, а потом это все выходило боком. Попав в организм, радиация не исчезает бесследно. Ты сгниешь, а она останется.
— Но особых тайн и секретов в действительности не было?
— Единственное, до некоторого времени правительство не афишировало все уровни радиации, которые были на объекте. Еще ходила информация, что вместо человека на крышу должны были пускать робототехнику, которую доставляли из Германии и Японии. Но это не так. Машины не выдерживали такого уровня радиации, происходил пробой всех электрических систем, и роботы героически погибали. Так что русский биоробот — это человек, который все сделал сам.