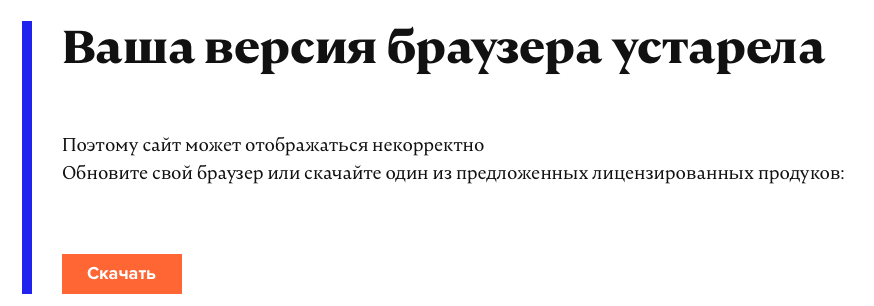«Шахидом быть почетно». Как иностранные добровольцы воюют и гибнут за Рожаву
Волонтеры едут со всего света, чтобы защитить чужую родину на чужой войне. Репортаж Daily Storm из Сирии
***
Сирийский Курдистан — непризнанное государство на границе Сирии и Турции, которое местные жители называют Рожавой. В 2012 году во время гражданской войны курдским вооруженным формированиям удалось выбить сирийский режим и фактически добиться автономии. На отвоеванных территориях курды попытались установить «прямую демократию»: организовали людей в коммуны и советы, стали бороться с патриархатом и феодальными порядками. Фактически в стране произошла революция левого толка.
Либертарными идеями сирийские курды заразились у турецких революционных организаций — вроде Рабочей партии Курдистана (РПК). Ее еще в 1978 году создал Абдулла Оджалан, чей портрет сейчас в каждом доме Рожавы. РПК, провозгласив борьбу с империалистическими потугами Турции, капитализмом и угнетением, начала атаковать военные базы. Этим восхитились европейские мечтатели, у которых революция осталась только в песнях.
Когда стало понятно, что с революцией в Турции не выйдет, РПК вместе с лидером Оджаланом перебралась в Сирию. В нужный момент на волне «арабской весны» организованное РПК население свергло президента Башара Асада и провозгласило самоуправление. Спустя годы Рожава оказалась окружена врагами. С одной стороны — турки, с другой — исламисты, с третьей — правительственные войска Сирии. Воевать приходится сразу со всеми. На помощь курдам устремились идейные соратники со всего мира.
Им не платят по три тысячи баксов каждый месяц. Привычных армейских будней, сухпайков и дембелей тоже нет. Здесь не заставляют драить туалеты. И по передовой тут бегают в шлепках. Хочешь примерять перед марш-броском бронежилет — поезжай во Францию. Кроме того, исключены любые отношения, кроме товарищеских. Забудь о сексе и даже о кокетливых переглядываниях. Даже имя свое забудь и не вспоминай. Возьми новое — курдское. Короче говоря, искателю приключений лучше подобрать другое место для военного туризма.
Зато тут есть кое-что другое. За этим мы здесь.
Фронт
Мне долго не давали пропуск на фронт. И не потому что опасно, а наоборот. Близкого боя и бомбардировок сейчас там нет. Противник иногда обстреливает, но не прицельно. А еще в прифронтовые деревни уже вернулись жители. Некоторые приезжают, чтобы забрать вещи, кто-то просто соскучился по дому, кому-то не понравилось в лагере беженцев.
Я — военный корреспондент. Так что по логике командования на фронте мне делать сейчас нечего. Но добиться разрешения все-таки удалось. Не спрашивайте как.
По дороге на передовую топчутся овцы, мальчик лениво отгоняет их прутиком. Замечает, что я не местная, и показывает «викторию» — фирменный знак местных революционеров.
И вот я на фронте. Отличается он от любого другого места в Рожаве лишь тем, что здесь иногда ходят люди в форме. Ну и постреливают, бывает.
Каждый день здесь копают землю. Сейчас для обороны, а в прошлом году для трупов
Сижу у входа в землянку. Сегодня турки не дают работать. После завтрака перед дежурством надо рыть бункеры, а над головой кружат дроны. Иногда прилетают «чемоданы» тяжелой артиллерии, но это, как говорят тут, «для атмосферы». Однако расслабляться все равно нельзя: если заметят с воздуха, могут дать и прицельный залп. Приходится прятаться под деревьями или кустами. Еще можно забежать в какой-нибудь дом — но он может быть заминирован. Курды сами устанавливают там взрывчатку: на случай, если деревню захватит враг. Главное, в случае чего, на ломаном арабском объяснить вернувшимся хозяевам, дескать, «бум!» и нет ни тебя, мужик, ни вещей, за которыми ты вернулся.
В общем, работа встала. Мы этому только рады, сидим и курим рожавские сигареты «Арден», от которых в глотку как будто заливают мазут после каждой затяжки.

Мой товарищ Джуди кривится. Он любит родные французские «Галуаз», но их вот уже две недели как не завозят на передовую. Ему 24, но он говорит, что 22:
«Если назвать число поменьше, то никто не подумает, что лысею от возраста. Пусть лучше думают, что от стресса». На войне Джуди уже четыре года. Листает на телефоне свои фотки с убитыми игиловцами* и своим беленьким котенком.
— Хевал, — говорю, — ты уже показывал.
Всех мы здесь называем «хевал», что по-курдски значит «друг» или «товарищ».
Каждый день здесь копают землю. Сейчас для обороны, а в прошлом году для трупов. Говорят, в Сарекание, на которую Турция напала 9 октября прошлого года, выкапывали неглубокие канавы, туда грузили трупы и поджигали. Потому что не было сил и времени, чтобы хоронить по всем правилам. Всем этим занимались два доктора-интернационалиста, которые были почти единственными медиками на весь город Сарекание в те самые 10 дней противостояния турецкому военному катку и их отбитым джихадистам.

Сейчас, я знаю, эти два доктора на время «ушли из профессии» и переквалифицировались в бойцов. Это сложно. Особенно если ты медик, «хэшнеби» (чужак. — Примеч. Daily Storm) и женщина. Но в целом можно надавить на командиров, бравируя революционными лозунгами о равенстве и справедливости, и тогда тебя пустят в самое пекло. Так было с белокурой британкой Анной Кэмпбелл. Она пригрозила своему командиру, что уедет из Рожавы, если ее не пустят в Африн во время его оккупации Турцией два года назад. В конце концов ей разрешили. Сейчас ее тело где-то под завалами на оккупированной турками территории.
«В Африне было здорово», — вспоминает хевал Махир. Он командовал знаменитым Интернациональным батальоном свободы во времена самых яростных боев за Ракку — официальную столицу ИГИЛ*. «Хорошие люди, хорошая война... Я могу рассказать тебе тысячу историй про Африн. Знаешь, у нас был один ирландец, он отрастил себе усы больше, чем у меня, представляешь?»
Представить сложно, но я постаралась. Только что при мне хевал Махир приподнял усы левой рукой, чтобы хлебнуть чай.
«Все иностранцы здесь пытаются отращивать себе усы, чтобы стать похожими на революционеров. Усы — это главный символ партизан, — заключил хевал Махир и вновь провалился в пучину воспоминаний про Африн. — Мы вернулись из Африна за день до того, как YPG вывели все войска. У меня под командованием был Текошер (известный итальянский анархист, погибший годом позже в Бахузе. — Примеч. Daily Storm) и еще два интернационалиста. Всего нас было шесть человек. Мы смотрим, а все уезжают. Машины бодаются. Люди бегут в одну сторону, а нам-то, по-хорошему, надо в другую. Приходим в пункт по координации. Это такое место, где решают, куда нас отправят: на оборону какой деревни или, может, в атаку... В общем, приходим — а там уже никого. Так и получилось, что мы с интернациональными бойцами покинули Африн последними».
Амазонка из-за рубежа
«Даже в Бахозе в меня чаще стреляли», — говорит Берфин. Берфин из Восточной Европы. У нее голубые глаза и светлые волосы. Идеальная цель для любой винтовки. Именно так: специально не хочу писать «снайпера» — чтобы полностью исключить все человеческое по ту сторону дула.
Одной рукой Берфин лениво ковыряет лопатой землю, другой курит: «Пару месяцев назад мы были вон в той деревне, — она ткнула сигаретой в воздух. — А теперь там ДАИШ* (так называют ИГИЛ*, когда хотят позлить самих игиловцев*. — Примеч. Daily Storm). Знаешь, сколько там было трупов за один день? Восемь. Один из них, ассириец, накануне стал отцом. Так и не выбрал имя своей дочке. От него осталась только половина тела».
Берфин не выглядит уставшей, но в глазах у нее как будто что-то умерло. Она бегло говорит по-курдски и не теряет надежды быть понятой по-арабски. Рядом с ней портативный и короткий автомат Калашникова. «Игрушечный автомат, — улыбается девушка. — Мне как-то раз сказали, что он легкий, мол, как раз «специально для женщин». Ну я и зарядила его сразу же — проверить, испугаются они игрушечного автомата или нет».
Если ты женщина, тебе как будто надо воевать на два фронта: со своими товарищами-мужчинами и врагом
Берфин здесь уже два года. Сначала она снимала фильм о войне. Потом война забрала ее к себе. При разговоре с командиром она кривляется и даже показывает кулак. Я спрашиваю ее, в чем дело.
«Говорит, что не пустит меня в атаку. Шутит, конечно, но достали меня такие шутки. Если ты женщина, тебе как будто надо воевать на два фронта: со своими товарищами-мужчинами и врагом», — сетует Берфин.
Ближневосточные экзотические традиции усложняют будни женщин. Например, стыдно спрашивать, где туалет, если у человека другие гениталии. На фронте с этим полегче. Но все равно есть некоторая неловкость. Как-то раз я была на курсах оказания первой медицинской помощи бойцам, так вот женщины там накладывали жгут только на руки мужчин. Нога — это уже перебор: женщине-бойцу лучше не трогать мужскую ногу. Даже для остановки кровотечения. Будет ранен в ногу — пусть выходит из положения сам.
Сейчас Берфин — единственная женщина в своей группе. Таких ситуаций командование старается избегать. Но если уж подобное случается, то для бойцов это почти ничего не меняет. За годы войны плечом к плечу с женщинами почти все мужчины оставили свои предрассудки. Как правило, гендерные, национальные и другие различия стираются после первой бомбардировки. После остается лишь ужас, нервный тик и товарищество.
Берфин вспоминает Бахоз — небольшую деревушку на Евфрате. Год назад там вели последний бой последние силы «Исламского государства»* — так, во всяком случае, мы думали тогда. Силы коалиции прижали террористов к берегу реки, оставив им лишь небольшую полоску суши. Больше месяца террористы держали оборону, используя детей как живой щит.

В последние месяцы на этом участке фронта почти не было женщин: воевали там силы Демократической Сирии, а у них нет специальных женских батальонов. Вместо них были группы YPJ — курдские женские отряды по типу YPG. На фронте они появлялись в основном для того, чтобы дать интервью, а не пойти в атаку. Большую часть времени YPJ «работали с мирными». Звучит скучно, но на деле — гарантированная путевка в психдиспансер.
По мере продвижения войск СДС из «зачищенных» от ДАИШ* деревень выходили старики, женщины и дети. Они шли караванами, таща на себе все пожитки и раненых. Все они выглядели одинаково — смахивали на Бэтмена. YPJ на импровизированных пропускных пунктах просили стеснительных женщин «запрещенных» (так называют игиловцев*) открыть личико, а слишком подозрительных ощупывали. Вот как раз во время таких процедур и было больше всего погибших и раненых. Какая-нибудь из «запрещенных» в стайке детей выдергивала чеку от пояса со взрывчаткой. В итоге все вокруг, включая детей нерадивой матери, взлетало на воздух.
Неудивительно, что после такого Берфин скучает на нынешнем фронте. Там — в Бахозе — в нее стреляли чаще.
Современный партизан
Я не хочу ударяться в глубокую философию и задавать интернационалистам банальные вопросы, которые больше годятся для посмертного интервью. «Зачем ты здесь? Что тебя побудило приехать сюда, в такую даль?» Ответить на это я смогу и сама. Наверное, это то чувство, которое заставляет заступаться за слабого и не бояться получить сдачи.
Есть три категории интернационалистов: революционеры, туристы и фашисты
В моем романтическом порыве меня остановил хевал Махир: «Есть три категории интернационалистов: революционеры, туристы и фашисты». Я потребовала объяснений.
«А что ты думаешь? Приезжают люди, которым просто хочется убивать. Например, приезжали те, кто ненавидит мусульман. Их не смущало, что вокруг тоже мусульмане. Есть туристы. Они вне политики. И даже не знают, кто такой Маркс», — с ужасом заметил коммунист хевал Махир.
Те самые фашисты, убивавшие мусульман, уехали на Украину. Поговаривают, что вступили в батальон «Азов» (запрещен в РФ). Кого они убивают, сейчас одному Аллаху известно. Сюда, в Рожаву, их больше не пускают, а отбор добровольцев стал гораздо строже.
Сейчас интернационализм в Рожаве выходит на новый уровень. Создаются целые структуры для иностранных волонтеров. Есть коммуна интернационалистов, которая по задумке руководства Рожавы должна объединить и контролировать деятельность всех интернационалистов. В ней иностранцы проходят обязательное обучение: 40 дней идеологии, истории и поездок по стране для изучения прогресса революции. На время обучения отбирают телефоны. Связи с внешнем миром никакой. К такому готовы не все. И те, у кого погружение в идеологию апочизма не вызывает энтузиазма, заранее ищут другие пути.
Не надо думать, что здесь эдакая казачья вольница на современный лад. На самом деле интернациональные бойцы за свободу Рожавы ограничены в перемещениях между различными организациями, подразделениями и батальонами. Попади ты в YPG International, присоединиться у тебя к Интернациональному батальону свободы так запросто не выйдет. Потому что этот самый Интернациональный батальон свободы — детище многочисленных революционных левых организаций из Турции. А они идеологию Оджалана не разделяют, предпочитая мечтать то о Ленине, то о Сталине, то о Мао, то обо всех сразу. Воюют они, конечно, из солидарности, ведь душа болит за Рожаву.
А еще Рожава — тренировочная база для всех революционеров. Военная подготовка даже на самом базовом уровне — главное и неизбежное событие для всех прибывших. Те, кто приезжает для работы на гражданке, обучаются стрельбе из автомата Калашникова. Кому-то разрешают подержать в руках пистолет, кто-то даже видел гранаты.
Будущих бойцов же обрабатывают основательно. После первых дней улыбок и распития чая начинаются будни, полные непроходящей боли в мыщцах и вечного недосыпа. Тут уже учат и ползать, объедаясь землей, и ходить гусиным шагом, даже когда командир отворачивается. Есть и специализированные тренировки — «курсы повышения квалификации». Можно научиться снайперскому делу. Но вот сапером стать не разрешат: «А то приедешь в свою страну, начнешь всех подрывать, и потом они скажут, что это мы тут тренируем бомбы собирать». Но в целом тактике ведения боя в Рожаве интересующихся учат.
Как-то раз группа интернационалистов обучала новичков, как правильно «зачищать» дома, не наступая при этом на мины.
«Остановите все! Стоп! Я сказал стоп! Мы едем на фронт! — радостно объявил Текошер. — Через пять минут или полчаса! Кто едет со мной? Срочно! Пять минут!»
Юные солдаты призадумались. Кто-то даже обиделся, что тренировку по зачистке домов от несуществующих мин прервали. В итоге энтузиазм сохранился только у Текошера. Но как обычно тут происходит, пять минут может растянуться на месяцы ожиданий и гаданий на кофейной гуще.
В тот день Текошер сидел «на чемоданах». Два раза собирался почистить автомат. Один раз даже принес дизельное топливо, которое здесь используют и для чистки оружия, и для обогрева домов, и, кажется, даже в качестве одеколона. Что, разумеется, разбивает сердца экологических активистов.

Приехал командир, сказал: что-то как всегда изменилось, и на фронт Текошер обязательно поедет завтра. Ни днем позже.
«Еще, видимо, остались какие-то траншеи... Если все будет хорошо, завтра уезжаю?» — написал Текошер в Facebook в последний раз.
Мы уезжали на фронт вместе: я, Текошер и еще один зарубежный анархист. Бойцы наспех перематывали гранаты изолентой, чтобы случайно не взорваться в неподходящий момент. Командир Махир срывался на вопль:
— Нет, ты не пойдешь в атаку, Текошер! Я сказал – НЕТ!
— Ma dai… Porco Dio… Но нам нужен M-16, где мы еще его возьмем, если не у ДАИШ*, — Текошер по-итальянски махал руками, занятыми пулями.
— Ты погибнешь зря, за что ты погибнешь? За США?
— Кажется, я забыла турникет, — перебила я.
— Не волнуйся, ты не пойдешь в атаку, — успокоил Махир и задумался. — А скинь мне фотографию на случай, если что. И телефон мамы.
— А у меня две фотографии, — похвастался Текошер.
Позднее оказалось, что фотографий у него куда больше, чем мы могли себе представить. Он неплохо подготовился к тому, чтобы после смерти стать собирательным образом интернационалиста в Рожаве.
У меня на телефоне есть три эсэмэски, которые я никогда не удаляю. Во всех трех кладезь мудрости, которая мне пока недоступна. Все эти эсэмэски от Текошера. Или, как его называют в родной Италии, — Орсо. Для разочарованных родителей — Лоренцо.
«Война — это скучно. Просто будь всегда готова. Когда скажут идти — иди. А пока просто проводи время с друзьями», — написал Текошер.
Шахидом быть почетно. Твоим именем будет разрываться громкоговоритель, а кто-то даже назовет ребенка в твою честь
Через три дня, 18 марта, был последний день в истории «Исламского государства»*. (Как позже мы узнаем, это оказалось не так.) Последним он был и для Текошера. Больше с его номера эсэмэски мне не приходили.
В тот день утром Текошер занял позицию. А вместе с ним еще человек шесть бойцов сил Демократической Сирии. ДАИШ* начали контратаку, безнадежную и потому отчаянную.
Какое-то время по рации называли имя Текошера. Надеялись, что он просто где-то спрятался и выжидает. Но об этих догадках я узнала уже потом. А пока из всех сообщений по рации на арабском языке я могла распознать лишь «Текошер».
Через час мне позвонил хевал Махир:
— Ты больше не поедешь на передовую. Я еду за тобой. Мы больше не можем потерять еще одного иностранца в этой войне.
— Нет, мы так не договаривались, — говорю. У меня всегда были проблемы с соблюдением субординации.
— Я уже договорился с главнокомандующим. Тебя выведут на 300 метров дальше от линии фронта. И не забудь свой рюкзак, — бывший командир Интернационального батальона свободы почти срывался на рык.
— Что случилось?
— Текошер... стал шахидом.
Здесь надо сделать ремарку. Павших защитников Рожавы называют не иначе как «шахидами». По-курдски «мученик» — это «шахид». Конечно, тут ассоциации для русскоязычного человека с шахидами, взрывающими метро, неизбежны.
Но шахидом быть почетно. Твоим именем будет разрываться громкоговоритель, а кто-то даже назовет ребенка в твою честь. Твою посмертную фотографию будут целовать и орошать слезами курдские и арабские бабушки. Здесь тебя будут вспоминать, пока не рухнут все диктаторские режимы. Стихи о тебе аккуратно лягут на дребезжание струн саза — курдской почти что балалайки, на которой так любят играть партизаны в горах. Кто-то, может, сделает себе татуировку. И все это тебе обеспечено, будь ты хоть черт знает кем в своей загнившей Швейцарии.
Многие иностранцы выбирают героическую гибель здесь, чем какую бы то ни было жизнь дома.
«А что я буду делать там? Работать по 12 часов в ресторане? Возвращаться домой и гулять с собакой? Потом спать и снова на работу?» — любил повторять Текошер. На работу Текошер больше никогда не вышел. Фотографию его тела опубликовали в одном из СМИ ИГИЛ* с подписью «убит крестоносец» — неожиданное описание растатуированного знаками анархии Текошера.
Последний раз мы встретились с Текошером в морге города Дерик. Три снайперские пули — видимо, он как всегда стрелял в полный рост, не страшась встречного огня. Голова на месте: в этот раз игиловцы* не отрезали голову «неверному иностранцу».
Сейчас Текошер — пример для «начинающих» интернационалистов. «Я просто обычный парень, который делает то, что считает правильным», — оправдывался итальянец. Все в один голос говорят, что Текошер был очень храбрым. Кто-то даже уверен, что чересчур.
Интернациональные бойцы в большинстве своем оказываются хорошими бойцами. Они рвутся на передовую, смиренно предают свои вегетарианские предпочтения в еде, уплетая все, что есть на фронте. Не уклоняются от шальных пуль. Именно поэтому командиры придумывают разные причины, чтобы не отправлять иностранцев в операции. Ведь мотивация путников из далекой страны оказывается порой гораздо сильнее, чем мотивация среднестатистического арабского бойца, размышляющего о том, а действительно ли ему придется несладко, если его страну оккупирует Турция или, может, пронесет.
Интербригады со знаком минус
Мой товарищ Сархат из самой что ни на есть благополучной страны мира — Щвейцарии. Каждый месяц мы созваниваемся и обещаем друг другу непременно уехать через месяц-два из Рожавы и обязательно отправиться куда-нибудь в горы, лес, к морю. Планируем следующую революцию устраивать где-нибудь в красивом месте, а не в пустыне.
В Рожаве он стал уважаемым человеком, из архитектора прекратился в доктора: как-то раз вскользь упомянул, что умеет накладывать жгут и даже знает, как остановить артериальное кровотечение. Таких умных слов никто не знал, и Серхату предложили работать в военном госпитале.
За время работы в госпитале он промыл от червей много загнивших ран у детей. Отрезал не одну пару рук и ног. На его глазах последний дух испустило почти пять десятков человек. Месяца три, когда шли последние бои с ИГИЛ*, он вообще не покидал здание госпиталя. Но у него начала ехать крыша: перестал есть, спать и общаться со всеми, кроме пациентов и врачей. После почти года работы там переквалифицировался в солдата. Говорит, рассудок к нему вернулся.
Я набрала его номер, чтобы выяснить ситуацию с интернационализмом в Рожаве.
— Привет, ты дома? Можешь говорить?
— Да, на фронте. Конечно, могу.
— Ты думаешь, от иностранных волонтеров здесь есть какой-то толк?
— В плане защиты Рожавы от оккупации? Защиты революции? Не смеши меня. Сравни, сколько «интернационалистов» у ДАИШ* и сколько у нас.
Перед глазами у меня заплясали воспоминания из Бахоза. Француженка из ИГИЛ*, срывающая черную тряпку со своего лица, замечает мою камеру, театрально захлебывается в слезах и молит о пощаде курдянку из YPJ, которая придерживает француженке дверь. Толпа женщин из России, которые без акцента кричат в камеру: «Владимир Владимирович, нам нечего кушать, забери нас домой! Да прости же ты нас. Мы же люди». Итальянские, бельгийские, немецкие паспорта убитых игиловцев*, испещренные пограничными штампами Турции, Ирака и Сирии. Евро вперемешку со свежеотчеканенными монетами «Исламского государства»*.
— Да, пожалуй, ты прав, — говорю. — Но во время войны в Сарекание и Гре Спи улицы в Европе были переполнены... Каждый день были протесты...
— И что это изменило? Символические действия. У ИГИЛ* были сотни тысяч боевиков-интернационалистов. А у нас? Где-то тысяча за все время?
Сейчас Сархат ждет войны. И ждет уже довольно долго. Турция занята Идлибом, меряется с Россией мощностью армии и дипломатичностью. Над головой у Сархата кружат лишь дроны и птицы, бомбы пока не пролетали. Мой вопрос, когда мы поедем покорять Монблан вместе, Сархат пропускает мимо ушей:
«Слушай, я знаю, что от интернационализма в Рожаве пока нет особенного толку. И я не верю в утопию, но думаю, что лучший мир возможен. И здесь его хотя бы пытаются построить».
Дроны жужжат, как мухи. И уже хочется сходить в туалет, но нельзя. Сархат где-то сидит сейчас так же. Но ему, наверное, повезло с командиром, и его никто не заставляет рыть бункеры по шесть часов на дню. Я смотрю на часы и гадаю, когда кончится война и снова можно будет поиграть в революцию. Но война не заканчивается. Да она и не главное. Революция — это не только война. К тому же, как сказал Текошер, война — это скучно.