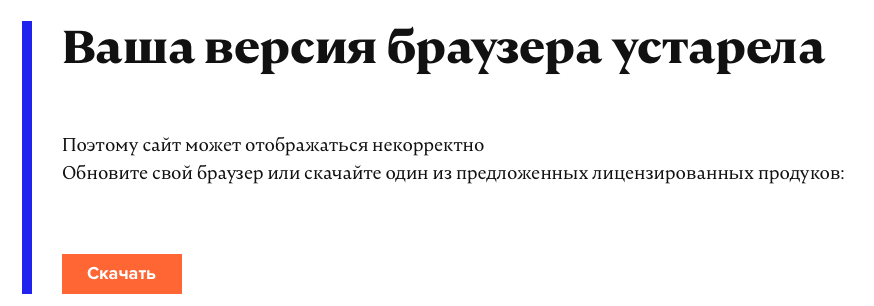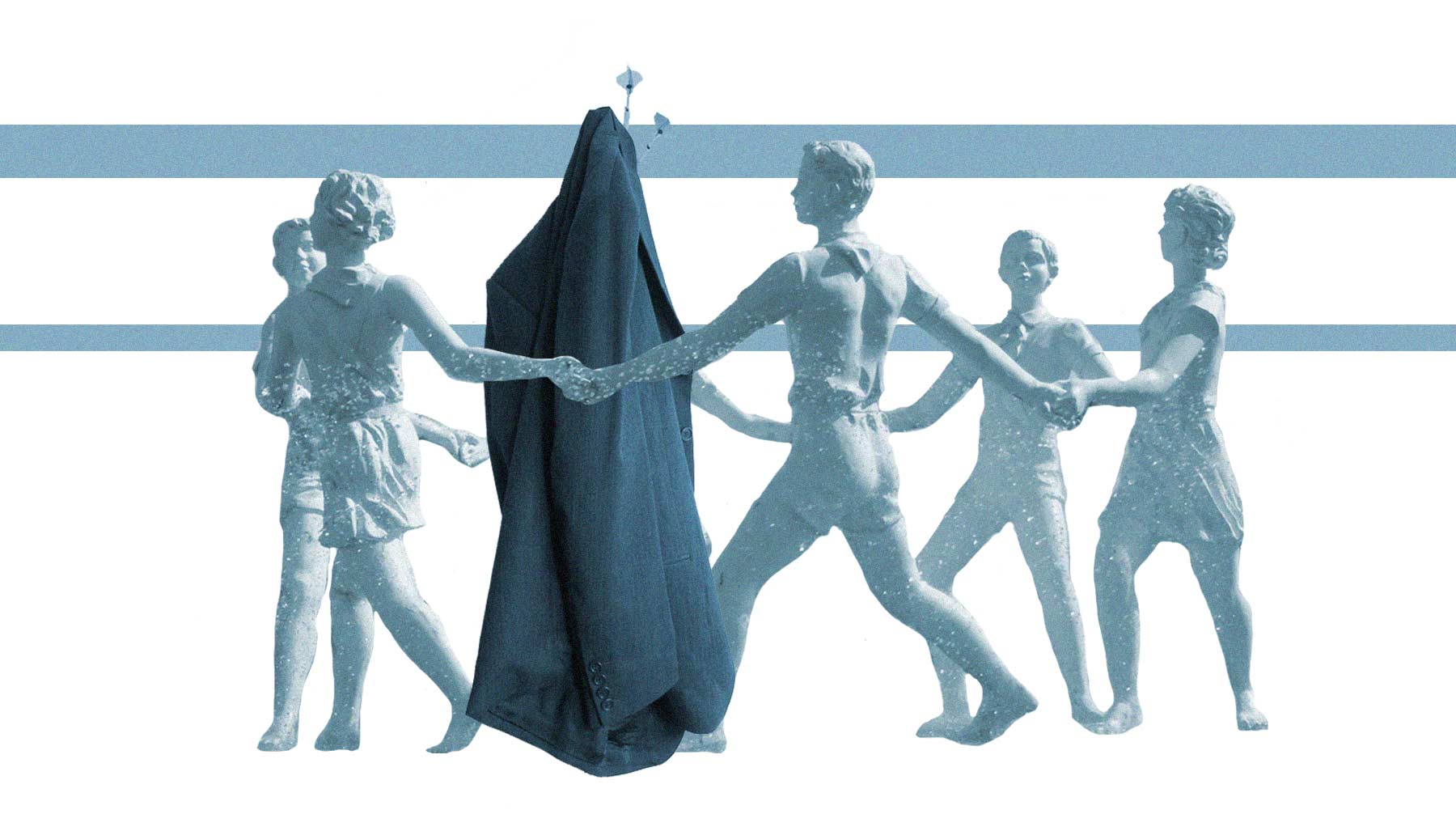
Сиротская секта
Они выходят из детского дома с пониманием мира, взятым из рекламы и сериалов, по большей части российских, тупых
Перед встречей с Валерой я прокручиваю в голове примерные сценарии разговора. Перечень стоп-тем стремительно растет, а список важных вопросов пополняется мягкими формулировками. Надо осторожнее говорить про бедность, казенщину, насилие, бухло, наркотики, и тем более про маму. Нужно выбрать какую-то модель поведения, чтобы не отпугнуть и не задеть травмированную психику героя. «Он же сирота, он ранимый, он замкнется», — навязчивые мысли не оставляют ни на секунду. Где-то в подкорке сидит ощущение, будто я этому парню уже что-то задолжал и надо его чем-то задобрить. «У него родителей нет, а у тебя есть. Он несчастный и жизнь у него тяжелая. Порадовать, может, чем? Сникерс надо было купить и газировки», — стереотипы продолжают наваливаться... Изначально этот текст планировался коротким и должен был рассказывать о фиговой социализации сирот, но корни проблемы настолько глубоки, что я даже не вижу дна, хотя и стремительно приближаюсь к днищу. Ниже вас ждет 30 тысяч знаков, где будет: секс, насилие, деньги, наркотики и бухло, предательство, равнодушие, хтонь, безысходность и многие другие спутники сиротской жизни.

Как сирота Валера все деньги просрал
В небольшой однушке вкусно пахнет борщом. С порога просматриваются и комната, и уютная кухня. Стену несколько сконфуженно подпирает невысокий белокурый парень. Это и есть тот самый сирота Валера. Девушка, которая говорит с ним менторским тоном и курсирует между плитой и мойкой, — это Саша Нелюба, бывшая наставница Валеры из международной организации «Старшие Братья Старшие Сестры». Все мы оказались у нее дома, потому что Валера не хотел встречаться ни в своей квартире, предоставленной государством, ни на нейтральной территории.
«Не думаю, что он стесняется, скорее, надеется получить от меня гуманитарную помощь. Денег я ему не даю, а продуктов подкидываю иногда», — объясняла Саша еще до встречи.
Девушка выполняет роль старшей сестры Валеры уже лет семь. Раньше он был участником программы центра, где она работает волонтером. Наставничество можно было прекратить еще тогда, когда парня взяла к себе многодетная приемная мама из подмосковных Луховиц, или когда подопечный получил московскую квартиру, но Саша помогает уже по инерции. Не стесняясь Валеры, она объясняет, что пока считает, что он не готов к самостоятельной жизни. Разливая суп, она, кажется, в сотый раз проговаривает бывшему подопечному, как нужно отстаивать свою позицию в суде и почему нельзя проспать заседание. Скоро будет уже полгода, как Саша, Валера и его бесплатный адвокат от благотворительного фонда пытаются вернуть сироте деньги, которые у него со счета списали судебные приставы.
Вкратце «старшая сестра» рассказывает, что в банке практически у каждого сироты к моменту его выхода из интерната скапливается немаленькая сумма. Это могут быть алименты или начисления по потере кормильца, или другие дотации, которые не трогает государство. «Эти подъемные деньги — у Валеры скопилось 108 тысяч — судебные приставы списали в счет долга за коммуналку, который набежал в квартире его родной матери. Несмотря на то что она отказалась от сына, когда ему был всего месяц от роду, прописан он был по ее адресу. Теперь он совершеннолетний, и поэтому государство посчитало, что может удержать с него сумму долга», — объясняет Нелюба.
Многие, кто работает с сиротами, рассказывают схожие истории. Иногда в них случается хеппи-энд. Правда, если за сироту кто-то вовремя впряжется из взрослых. Но чаще, когда сиротам сообщают, что деньги у них списали за чужие долги, они не протестуют и не отстаивают свои права. «Так облапошивают каждого второго. У них нет базового доверия к миру, но есть вдолбленное «взрослый сказал». То есть взрослый сказал: «все, мы у тебя деньги забрали», и они смиряются. Они же выходят из детского дома с пониманием мира, взятым из рекламы, сериалов, по большей части российских, тупых, и песен рэп-исполнителей. В 53-м интернате я билась головой о стену, пытаясь объяснить, что карточка Visa — это не безлимитная карта, и денег на ней столько, сколько ты заработал. Они же считают, что если ты заполучил карточку, то у тебя вообще нет проблем», — объясняет Саша, накладывая Валере вторую порцию вареников.
Парень не встревает в разговор, и только когда Саша его в чем-то упрекает, нелепо оправдывается и говорит, что «все уже налаживается».
Как Валера был в жопе, ел макарошки, но устроился на работу
— Однажды я приехала, чтобы Валеру в суд отвезти, и полтора часа куковала под дверью, — вспоминает Саша. По ее словам, подопечный проспал, потому что «смотрел повторы хоккейных матчей до трех утра», а потом просто боялся открывать дверь, потому что еще не успел одеться.
— Да я просто… — начинает оправдываться парень, но Саша не хочет, очевидно, в очередной раз слушать отмазки.
— Он не являлся, потому что не мог встать утром, потому что ему лень! Но у нас большая радость, потому что он устроился на работу, — смягчается Саша и обращается уже к Валере. — Поэтому вот на кровати гуманитарная помощь тебе. Расскажи лучше, как ты питался одним сладким чаем несколько дней.
— Ну ел так бывало. Хлеб ел, макарошки, гречку, рис там… — возвращается он с пакетом продуктов из комнаты.
— На это деньги давала ему мама. Если бы я не запретила давать деньги, так бы и не устроился, наверное, — Саша еще продолжает ворчать, но уже по инерции. Я переключаюсь на Валеру и расспрашиваю, почему он выбрал работу в ресторане KFC.
— Ну потому, что я реально понимал, что я в жопе. Получать буду, может, 35 тысяч. Если работать там, то все равно не навсегда. Но если получится в течение пяти лет продвинуться на две ступеньки выше, то, естественно, я, может быть, даже там и останусь, — мысли Валеры путаются. Он, кажется, еще сам не решил, чего хочет от своей первой работы. — Потому что территориальный управляющий получает 300 тысяч. Я бы деньги копил. На квартиру. Я не мечтаю о новой двухкомнатной квартире в центре. Я хочу поближе к центру переехать, но мечтаю об однокомнатной старой квартире на Крымской. А потом — все. Сбылась моя мечта! Ну, как бы, я буду еще куда-то идти. Я же не такой человек, чтобы… а может, и такой. Я еще не до конца себя узнал.
Я спрашиваю Валеру, о какой работе он мечтал в детстве. Ведь вряд ли о том, чтобы жарить курицу и разливать выдохшуюся газировку. Но почти сразу понимаю, что разговор повернул не туда. Парень в мечтах был машинистом метро, но в реальности у него нет школьного аттестата, есть только справка с диагнозом «олигофрения в степени дебильности» и навыки, которые он получил в колледже, учась на маляра. Саша объясняет, что интернат, в котором жил Валера, был коррекционным и образование там было соответствующее.
«Там было чтение, счет, военно-патриотическое воспитание и «технологии и методы влажной уборки помещения» в трудовой комнате. Готовили они понарошку, потому что плиту включать нельзя было. Пожарные нормы запрещают пользоваться ею детям с диагнозом», — объясняет Нелюба и добавляет, что, не имея аттестата, он не мог пойти в нормальный техникум и пошел получать начальное профобразование с такими же «коррекционщиками».
«Никто и не возьмет его сейчас работать по специальности, потому что нормальных маляров хватает, да и таджики дешевле», — говорит Саша, глядя на сникшего подопечного.

Как государство сирот хотело социализировать, а получило инкубированных детей
Чтобы не проспать на следующий день работу, Валера уходит пораньше. Выдав билет на метро и зачитав краткую инструкцию, как готовить продукты, чтобы не спалить ничего, Саша закрывает дверь. Она вроде и выдохнула с облегчением, но заметно, что мысли о том, как справится подопечный, не отпускают ее.
«Когда я там была, там был *****. Ни мыла, ни туалетной бумаги. Комнату он предусмотрительно закрыл. На кухне на полу и в ванной — горы немытой посуды. Вот так Валера живет», — объясняет Нелюба, когда я замечаю, что она для него как мамка, хотя парень вполне взрослый. Саша объясняет, что проблема тут слишком закоренелая.
«Валера жил в детском доме еще до того, как эти учреждения решили реорганизовать по семейному принципу. Это сейчас в каждой группе несколько разновозрастных детей, как в многодетной семье. А раньше там было по 20 человек в одной комнате, где нельзя ни постер повесить, ни на полочку какую-то вещь положить, потому что все должно быть на месте. Ходили в душ строем, там выдавали один гель для душа на всех. Когда их перевели в 24-й интернат, Валера сказал, что в нем лучше, потому что там дают дезодоранты. И тут я поняла, чем так воняло в 53-м интернате, где сотня половозрелых мальчиков и где не дают дезодоранты, а носки меняют раз в три дня, потому что больше не выдали. Там не было ничего своего, там не было места, где ты мог бы остаться один. Там не было даже задвижки в туалете. Ничему он не научился, потому что им всем говорили, что они дебилы», — рассказывает волонтерка.
Реорганизация, о которой говорит Нелюба, произошла в 2014 году и регулируется постановлением правительства РФ №481. Хотя многие называют его корявым, те же критики отмечают и положительные изменения, направленные на более гуманное отношение к воспитанникам интернатов и детских домов. Так, например, детям разрешили иметь личные вещи и пространство, а воспитатели теперь закреплены за одной группой и должны выполнять роль родителей.
То есть, по сути, интернаты должны теперь выглядеть как многоквартирный дом, где живут многодетные семьи. В жилых помещениях авторы постановления предусмотрели кухни и бытовые помещения, чтобы дети могли учиться готовить, гладить и стирать. Нововведения направлены на то, чтобы дети были более самостоятельными и росли в условиях, похожих на домашние.
Однако все это хорошо на бумаге. Все те люди, с кем я говорил, собирая фактуру для этого текста, хотя и отмечали благие намерения авторов постановления, говорили, что оно почти не работает.
«В одном детдоме директор говорит, что покажет сейчас, как два мальчика гладят брюки. Один мальчик держит штанину, а другой гладит. Я спрашиваю: кто будет держать брюки, когда воспитанники выйдут и будут жить отдельно? Директор побагровел и не нашелся что сказать», — рассказывает общественник Александр Гезалов. Он сам провел детство в интернате, выбрался из этой депрессивной среды, а теперь помогает не увязнуть в этом болоте другим.
«Второй кадр: две девочки чистят картошку, — продолжает он. — Прически — Мила Йовович отдыхает, лица какие-то странные, одеты хрен знает во что. С одной стороны, мы показываем навык чистки картошки, а с другой стороны — показываем совершенно инкубированных детей. Между собой они общаются такими словами: «Ну че, Валька, *** ***?» Ну вот они выйдут… Кому они будут нужны с этим навыком? Так выполняет трюки дрессированная собака. Но если ее на волю выпустить, то она просто убежит от всего этого. Поэтому они выходят из детского дома, они жрут «Ролтон», «Доширак», причем даже не заваривают. И нет у них цепочки «пойти в магазин, выбрать, оплатить, приготовить и потом начать есть». Им продукты выдали и сказали почистить картошку».
Система социализации сирот в России носит показной характер. Гезалов приводит в пример Финляндию. Там ребенок из интерната сам идет в магазин, сам выбирает продукты и сам себе готовит. «А тут [в России] мотивации нет. Пойдет он в магазин или нет, но жрачка у него будет. Порционная. А воспитателю это на хрен не надо, потому что он не включен в процесс важности передачи этого знания чужому ребенку», — поясняет общественник.
Как сироты хотят, чтобы их пожалели, и зарабатывают «паралич воли»
То, что эти дети не умеют варить суп, — это лишь верхний слой проблемы, считает режиссер Женя Беркович, которая помимо работы в театре занимается помощью сиротам и сама воспитывает приемную девочку.
«Они живут в условиях, где им не надо делать выбор. Они не выбирают ничего, начиная от цвета носков. Они не умеют определять время по часам, потому что им это не нужно. Моей подопечной 13 лет, и она не умеет определять время. Ей этот опыт никогда не был нужен. Просто придет воспитатель и скажет, куда идти. Они социально беспомощны, потому что система так работает. Это такой паралич воли», — объясняет Женя.
С тем, что у детей в интернатах нет ни мотивации, ни какой-либо благодатной почвы для того, чтобы эта мотивация появилась, согласны не только психологи или волонтеры, но и сами сироты. Точнее, те из них, которые вообще пытаются анализировать ситуацию. «Я хорошо помню, как нам воспитательница говорила, что мы никто, что мы ничего не сдадим и что все будем работать поварами и так далее. Поэтому у ребят нет никаких идей, что им делать. У них нет представления об их потенциале. Нет никаких амбиций», — вспоминает Вероника Климентьева.
Она сама прошла через интернатную систему, но считает, что ей повезло, когда она попала в хорошую приемную семью и в итоге смогла нормально закончить школу, а потом поступить в вуз. Многие из тех, кому повезло меньше, с юности еле сводят концы с концами и живут на дне.
Даже если амбиции у сирот возникают, их сразу подавляют — воспитателям куда проще кричать и вводить какие-то жесткие нормы. Проще сказать, что у ребенка ничего не получится. Гораздо сложнее бороться с неуверенностью детей. Девушка рассказывает, что в интернатах для зарождения мотивации подросткам в первую очередь не хватает позитивного опыта и среды. Многие ее знакомые, уверена она, могли бы добиться большего, если бы у них была какая-то моральная поддержка, которую не дают воспитатели в детдомах. При этом Вероника не винит их: «Людей просто не хватает, они так эмоционально выгорают, что, возвращаясь домой, даже близких не могут обеспечить теплом».
«Почему ребенок ничего не хочет? Потому что он цепляется за свое прошлое, обиду, травму и хочет элементарной жалости. И это абсолютно нормально. Любой ребенок, после того как он упал, хочет, чтобы его пожалели. Но его никто не жалеет, а он этого очень хочет. И у него огромное количество обиды, но с ним никто не работает», — объясняет Вероника.
В итоге у детей возникает сильный страх перед началом любого нового дела. Саша Нелюба, рассказывая про Валеру, говорит, что у него гипертрофированный страх неудачи. У него была сильнейшая мотивация стать машинистом метро, но когда он понял, что для этого нужно доучиваться в вечерней школе, то довольно быстро опустил руки. Ведь для того чтобы получить образование, надо заботиться не только о том, чтобы встать вовремя, но и налаживать контакты с людьми. Это для воспитанника интерната, пожалуй, самое сложное.
«У этих ребят есть бесконечный страх выстраивания отношений. Если даже тебе довелось общаться с кем-то адекватным, тем, кто тебя не обидит и поддержит, то потом возникает страх, что эти отношения перейдут на более глубокий уровень. Поэтому тебе проще трахаться со всеми подряд, нежели построить более близкие отношения», — объясняет психолог Руслана Яценко, работающая с сиротами. С ней соглашается и Саша Нелюба, и добавляет, что у сирот нет какого-то примера нормальных отношений между людьми, между мальчиком и девочкой, между ребенком и взрослым.
Однажды волонтеры проводили среди своих подопечных опрос, посвященный отношениям. Одна из девочек-подростков сказала, что готова переспать одновременно с пятью мальчиками, если ей дать за это бутылку крепкого алкоголя.

Про «волонтеров с тортами» и «нимбанутых» благотворителей
То, что воспитатели интернатов выгорают и зачастую не уделяют каждому ребенку должного внимания — это хотя и неприятная, но объяснимая реальность. Но сейчас детдомовцы не обделены вниманием волонтеров, активистов из НКО и благотворителей от бизнеса. Разве не может весь этот поток желающих помочь обеспечить сирот поддержкой, чтобы они не отказывались от мечты стать машинистом метро, вторым рэпером Хаски или какой-нибудь Ольгой Бузовой? Но мои знакомые эксперты, которые сами регулярно ездят по интернатам, почему-то топят против благотворительности.
«Волонтеры — это чаще всего люди, которые вредят детям. Есть такое понятие, как реактивное расстройство привязанности. Если волонтер не имеет стратегии по отношению к конкретному ребенку, настроенной на его социализацию и развитие, то это приводит к РРП. Это когда перед ребенком проносится большое количество людей и он не может выделить ценность конкретного человека. Сейчас система волонтерства носит стихийно-праздничный характер», — объясняет Александр Гезалов и рассказывает, как неустанно вдалбливает «благотворителям с тортами», что дорогие смартфоны и вкусняшки не приносят сиротам пользы.
«Когда я это начинал, все говорили: «Ну и сволочь! Он не дает нам жалеть сирот». А потом, когда благотворители начали соприкасаться с этими сиротами после их выхода из интернатов, возить передачки в СИЗО или хоронить их, эти люди горько вздохнули», — вспоминает Александр. «Нимбанутые» , — говорит он про таких людей. Гезалов не хочет обидеть благотворителей и считает, что сейчас общество одичало и потеряно. Люди искренне хотят помочь, но не знают, как и куда направить свою помощь. «Детский дом — это красивые селфи. Нимб сразу на голове возникает. Потом эти благотворители ходят-колобродят, а детям от этого — ничего. Но благотворители говорят, что «дети же улыбаются, у них же блестят глазки»... Ну что тут еще сказать?» — раздражается Гезалов.
Общественник говорит, что сейчас ситуация немного меняется и теперь в детские дома и интернаты попасть с благотворительными целями может только организация, имеющая юридический статус и хотя бы какую-то внятную программу по поддержке и работе с сиротами. «Волонтеры и всякие педофилы туда просто так набежать не могут. А раньше у директора была такая жировка, и те, кто побогаче, приходили в праздничный день, а остальные — в другое время. Новый год и День защиты детей — это всегда время жатвы, когда директора на этом жируют, а люди все несут и несут», — делится наблюдениями он.
Подарки для детдомовцев — это еще один катализатор насилия в учреждениях, объясняет Саша Нелюба. «Благотворители привозят ящики с планшетами и телефонами, но за эти подарки детей бьют нещадно. В интернате «Алые паруса» была, например, история с выбитым глазом у маленького ребенка. Старшаки все отнимают у младших и продают на улице. В промежутке между школой, психушкой и интернатом. Все это быстро аккумулируется у старших детей, разбивается, выкидывается, продается за колбасу и травку», — говорит волонтерка.
Женя Беркович рассказывает, что несколько раз в год она в праздничные дни пишет тексты о вреде подарков для детдомовцев: «Каждую секунду мелькают незнакомые люди, перед которыми они должны плясать. Тебя никто не спрашивает. Приехали спонсоры — натянул бантики и пошел выступать. А потом эти люди такой плюс к карме себе получают за то, что приехали к детишкам и привезли подарки, приехали добро чинить! Есть уже такой мем, как одни волонтеры приехали делать мастер-класс по шоколатье. *** твою мать! Сами они были счастливы до умопомрачения. А дети… Младшие цеплялись за каждую ногу и спрашивали: «Ты моя мама? Ты меня заберешь?»
Все мои собеседники описывают примерно один результат такой благотворительности: на выходе из интерната мы видим людей, которые привыкли, что им дают все самое лучшее. И если даже их новый айфон кто-то отжал или планшет разбился, то через несколько месяцев придут добрые волонтеры и снова подарят всякие гаджеты. Только во взрослой жизни уже никто ничего не дарит.

Как сироты бухают в шараге, сидят в тюрьмах и сдают своих детей в интернаты
После выхода из интерната подавляющее большинство детей ждет незавидная судьба. «Опыт, который они приобрели в детском доме, им не помогает во взрослой жизни. Через какое-то время они терпят крах. У них начинается самодобивание и самоуничтожение, — делится наблюдениями Александр Гезалов. — История мальчиков более или менее понятна и чаще всего обретает какой-то криминальный уклон. У девочек выживание — это либо проституция, либо наркотики. Простой пример: если взять взрослую колонию, порядка 1000 человек, то из них 200 человек — это бывшие детдомовцы. Это статистика УФСИН».
Те, кто прошел через колонию или попал в тюрьму за какое-нибудь глупое преступление, зачастую и дальше идут по этому пути. Тем более если речь идет о сиротах не из Москвы, Питера или других крупных и развитых городов. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, который сам провел детство в интернате, рассказывает, что 80% тех детей, с кем он жил и учился в детском доме, либо сидят в тюрьмах, либо лежат в земле.
«Государственная система попечительства подразумевает ничегонеделание со стороны молодого человека. В какой-то момент понимаешь, что классно быть условно в секте под названием «Сирота», потому что все вокруг тебя крутятся, потому что вокруг столько людей, которые чего-то для тебя хотят. Не надо трудиться, не надо ничего делать, все равно государство тебе должно. А после выхода происходит слом крыши», — вспоминает Прохорычев. Омбудсмен говорит, что в какой-то степени то, что некоторые его одноклассники попали в тюрьму, спасло их от смерти. К взрослой жизни они были не приспособлены, а так хотя бы находились под контролем государства.
Еще один вариант для сироты не потеряться во взрослой жизни со «сломанной крышей» — это пойти учиться в низкопрофильный колледж. Почему низкопрофильный? Потому, что за годы в интернате мало кто из детей успевает освоить школьную программу, чтобы нормально сдать экзамены в вуз. «Да и в техникумы всякие они попадают, просто плывя по течению. Туда их берут, потому что получают подушевое финансирование. Дети там практически не учатся. Они просто там пребывают. Чтобы выжить, они два раза получают в этих учреждениях образование. Потому что это общежитие, это деньги и стабильность. Был маляром сначала, а потом пошел на сварщика. В итоге он шесть лет прооболдуйничал. И ему уже 24-25 лет, а он все такой же мягкотелый. Начинаются наркотики, алкоголь и тусовки», — описывает ситуацию Александр Гезалов.
Он вспоминает, как уже повзрослевших сирот, у которых уже появились собственные дети, спросили, смогли бы они отдать их в интернат, и 70% опрошенных ответили утвердительно: «Это было на каком-то ток-шоу, куда меня пригласили в качестве эксперта. Самое страшное, что произошло потом. Они вышли и все набухались, начали вспоминать детский дом, пионерские лагеря, костры, «повариху Тамариванну»… Я смотрел на их лица. Было видно, что они пьют, нюхают, зубы выбиты, лица перекошены. Как-то случилось так, что у них появились дети. Но и сами-то они так и остались травмированными детьми. У них никогда не было вот этого материнского, и они готовы под такую же кальку отдать своего ребенка».

Как приучить общество к сиротам, а сирот к обществу
Все мои беседы с экспертами заканчиваются примерно одинаково, и на вопрос о том, что, на их взгляд, нужно поменять, чтобы сироты не выходили во взрослый мир и не отправлялись сразу на дно, они отвечают, что систему нужно менять в целом. Омбудсмен Прохорычев говорит, что детские дома никуда не денутся, пока государство финансирует их, а например, не занимается устройством сирот в приемные семьи и не заботится должным образом о поддержке таких семей. В противном случае, если говорить не о благополучных регионах, а о стране в целом, эти интернатовские дети выйдут и получат в лучшем случае низкооплачиваемую работу на закрывающихся предприятиях и две очереди в супермаркетах, одна из которых выстроится на вакансию кассира, а вторая — за дешевым бухлом.
«Потому что когда я спрашиваю повзрослевших сирот, почему они пьют, они отвечают, что у них нет денег и нет работы», — говорит Прохорычев.
Самое важное, что нужно ребенку, — это «значимый взрослый», который поддержит его, если ребенок споткнулся, который выслушает, пожалеет и мотивирует шагать дальше, а главное, будет рядом не только на Новый год и в День защиты детей, а всегда. Так говорит Вероника Климентьева и выражает тем самым общую позицию и экспертов, и самих сирот.
«Лично мне очень сильно не хватило того, чтобы выслушали и чтобы прислушивались. Я вот очень хотела заниматься баскетболом и очень просила мне с этим помочь, но меня постоянно сливали. Я не понимала, почему не помогают, тем более когда есть возможность», — приводит пример Вероника и добавляет, что если бы подход был индивидуальным, если бы за каждым ребенком был закреплен этот «значимый взрослый» или хотя бы штатный профессиональный психолог занимался разбором детских проблем, а не перебирал бумажки, то уже было бы гораздо лучше.
Психолог Руслана Яценко заочно согласна с Вероникой и продолжает ее мысль, что нужно менять систему так, чтобы дети из интернатов могли общаться с миром открыто. «Общество должно быть более открытым. И не в том плане, что вот бедные сироточки, давайте мы вам денег дадим. Это все херня полная. Общество должно быть открыто в том плане, что сообщество предпринимателей берет к себе на стажировку ребят, чтобы они имели возможность пробовать и учиться. Нужно организовывать не показушные, а действительно интересные и полезные комьюнити, где ребята могут учиться, общаться и просто тусить», — говорит Яценко.
Но, пожалуй, самая важная мысль, которую высказывают все специалисты, так или иначе связана с проблемами сирот. Это необходимость профилактики сиротства. «Надо задумываться не только о том, как живут в детских домах и после выхода из них, но и о том, как и почему туда попадают дети. Нужно заниматься помощью не только сиротам, но и мамам, которые часто сами сдают своих детей в интернаты. Потому что если вовремя не поддержать, например, мать-одиночку, которая родила и осталась наедине с кучей проблем и послеродовой депрессией, то вероятность, что ее ребенок пополнит список сирот, возрастает. Нужна и психологическая, и юридическая, и материальная поддержка, нужно больше так называемых кризисных центров, где всю эту помощь могут дать. Я не могу сказать, что общество не меняется, а власть ничего не делает, но системных решений явно не хватает. Нет толковых программ против эмоционального выгорания матерей, нет курсов осознанности для отцов, никто не занимается проблемой социальной изоляции мамы в декрете. Если же задуматься над тем, как консолидировать НКО, благотворителей от бизнеса и государственные ресурсы, чтобы помогать проблемным семьям, то, возможно, проблема сиротства будет стоять не так остро», — объясняет основательница Фонда защиты детей и мам Леся Рябцева.
Чтобы разобраться во всей этой гамме мнений и проблем, мало одного текста, даже такого длинного. Я не стал писать про тех, кто принимает решения о судьбах детей, про финансовые потоки, которые проходят через интернатную систему в России, про то, как сирот распихивают по психушкам и они могут жить там, пока не умрут, про сиротские гетто... Если вы знаете, что еще мне нужно узнать о сиротах и рассказать о них, — напишите в редакцию Daily Storm.