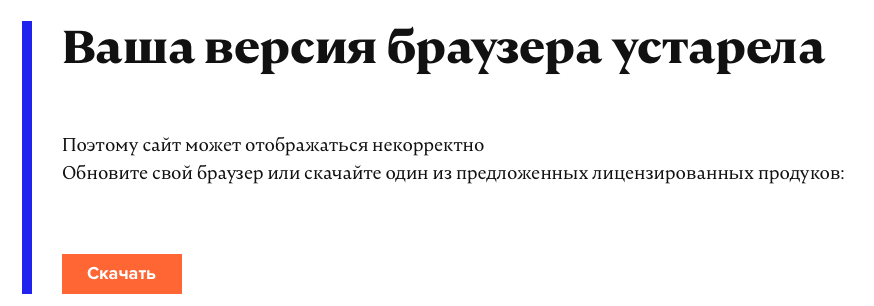Цифровой Орфей
Философ Андрей Ашкеров — о том, почему Хворостовский — крестраж Ельцина
Бытует мнение, что каждому поколению полагается свой Орфей. Эта слава давно и прочно закрепилась и за Дмитрием Хворостовским. Увы, опера — звуковая сестра эпохи, и меньше всего озабочена носителем голоса, которого приносит в жертву уже при жизни. Орфей не просто источает голос, но гибнет от рук менад. Издревле менадами являются те, кто берет на себя слишком много. Ими становятся те, кто не стесняется вершить судьбы.
Карьера Хворостовского свидетельствует о том, что ему всегда хотелось быть поближе к вершителям. Однако судьба не держится за тех, кто еще вчера казался ее хозяином, да и воплощение богинь, олицетворяющих наш удел, не обязательно человеческое. Сегодня они похожи на людей, но никто не возьмется судить о них завтра. С легкой руки Сартра в 60-е от мойр отмахивались, как от мух. Возможно поэтому начиная с 80-х они все больше приходят как вирусы и раковые клетки. Только в 2017-м году помимо Хворостовского от рака умер Зураб Соткилава — еще одна оперная знаменитость.
Вернемся, впрочем, к Орфею. Еще больше, чем поколения, на его присутствие рассчитывают эпохи, дух которых обязательно должен выражаться через голос. Собственно, есть ли вообще этот дух, — может, духа у эпохи никакого и нет — вопрос метафизический. (Отдельного обсуждения стоит, можно ли доверять ответ философствующим немцам.) Однако в чем точно можно быть уверенными, так это в том, что голос, звучащий в ту или иную эпоху, можно легко принять за ее дух.
Следовательно, с тех пор как история стала борьбой за смутно понимаемое античное наследство, в просторечии именуемое классикой, эту борьбу невозможно представить как певческий конкурс. Его победитель автоматически становится выразителем времени. Увы, именно в этот момент время лишний раз тщится доказать, что оно разворачивается на радушной сцене античного театра, все превращающей в трагедию, по возможности, кровавую. (На сцене театра осуществлялись реальные жертвоприношения.)
В античности театр превращал зрителей в часть общей временной структуры, принадлежность к которой позволяла чувствовать общность, неотделимую от судьбы. Общность судеб, давно ставшая простым риторическим оборотом, скрывает за собой нечто куда более важное: судьба объединяет, нанося похожие удары, театр позволяет видеть это, а предупрежден, — значит, вооружен.
Сегодня общностью ведают массмедиа, которые, пользуясь услугами своих трюкачей и притвор, превратили фундаментальное событие-исток в новостную ленту. Целостность общества как высшей формы организма уступила место целостности индивидуальных тел, все больше подтачиваемой постгуманизмом. То тут, то там постгуманизм оказывается услужливо подсказывающим людям, что все в их жизни — протез: не только заменители их органов, но любые институты, ценности, практики.
От прежних надежд на возможности «зрящего ума», способного усмотреть надмирные идеи, осталась только опера, главный звуковой мираж, бросающий вызов мелькающим миражам электронных экранов. Оперный певец не наделен даром умозрения, и уж тем более не является воплощением «ума, который зрит». Однако его голос существует таким образом, будто он может «отмерить меру»: сообщить что-нибудь об эпохе, как будто знает, чем она является перед вечностью. Впрочем, и без отсылок к вечности, именно голос способен сделать эпоху чем-то вневременным.
Вспоминая, к примеру, Карузо, мы оказываемся в состоянии оценить неожиданную камерность времени ар-нуво, которое даже в момент революций напоминает собранный на скорую руку домашний концерт. Слушая Марию Каллас, мы обнаруживаем неожиданную для шаловливых 60-х волю к укрощению судьбы. В 70-е нам выпадает столкнуться с Еленой Образцовой, показавшей, что пластиковые декорации, неотличимые от пластиковых людей, — не худшее окружение, чтобы вывести певческую игру страстей на новый уровень.

Хворостовский не стоит вровень с этими фигурами, но само существование на сцене этого талантливого певца запечатлело противоборство оперы с ветряными мельницами мультимедиа. Уступив Монсеррат Кабалье первенство в участии в клипе и проиграв Николаю Баскову в эстрадной популярности, Хворостовский тем не менее стал фигурой, намного более связанной с медиа. Это вызвано не каким-то сногсшибательным количеством видео, а тем, что сама его жизненная траектория совпала с тем, что голос эпохи превратился из аналогового феномена — в цифровой.
К девяностым оказалось, что эпохи больше не нуждаются в том, чтобы тешить себя присутствием какого-то «духа», охраняющего ее или наполняющего содержанием. Но и такое положение дел требовало своего аккомпанемента, который должен был заглушить еще звучные на тот момент голоса 60-х и 70-х. Это можно было сделать уже не найдя, а просемплировав (от английского «sample») голос, который по своей генеалогии больше не должен был отличаться от главного на тот момент музыкального инструмента (синтезатор).
Разумеется, речь не идет о том, что этот голос должен быть буквально сотворен электроникой. Но он должен был звучать как вызванное искусственно эхо некой ушедшей эпохи. По правде сказать, и сама эпоха была выдуманной, точнее, тоже созданной из семплов. Замысел был в том, чтобы оставить в прошлом все, что только и делает дух духом: долгую память, солидарность, самоотверженность, любовь и дружбу. Теперь об этих понятиях можно было только читать в учебниках, дозволялись также ностальгия и стиль «ретро». Главное — не превращать понятия в практику. Заодно в прошлом оставлялись и известные со времен Сократа незримые советчики (в более суетливые периоды называемые ангелами), предостерегающие от неправильных поступков.
Некое новодельное прошлое, названное — по вкусу — то Серебряным веком, то «страной, которую мы потеряли», то «исторической Россией» требовало своего звучащего выражения. И не только. Не меньше этого прошлое нуждалось в новом исполнителе. Он должен был казаться потерявшимся во времени и выглядеть, как оживший литературный персонаж.
Именно так появился Хворостовский. Про некоторых говорят, что если бы он не появился, его нужно бы было выдумать. Однако новые времена требовали другого подхода. Нужно было выдумать кого-то, чтобы, не дай Бог, не убедиться в том, что он существует в реальности.
Не знаю, добивались ли этого специально, но он выглядел как герой одного из дебютных стихотворений Анны Ахматовой «Сероглазый король». Только в ахматовском стихотворении герой погибал, а здесь наоборот — должен был казаться живым и полным сил. Правда, сероглазым в буквальном смысле Дмитрий не был. Однако это с лихвой компенсировалось копной рано поседевших — казалось, даже выбеленных искусственно волос — волос молодого песца.
С самого начала Хворостовский был витринным персонажем, обеспечивал на Западе образ русского с человеческим лицом и даже пел с лондонско-сибирским акцентом. Орфею 90-х предстояло заменить советского Орфея Муслима Магомаева, сохранившего голос, но ушедшего в мемуаристику. Однако это была только часть необычайной миссии одаренного певца.
Судя по всему, у поющего самородка из Сибири была такая же роль, как при Сталине у актера Геловани. Геловани воплощал медийный образ статного вождя, который сам себе все больше напоминал Ричарда III (рожа рябая, рука усохла, пальцы на ноге срослись с рождения). Попросту говоря, Геловани был тот самый «Сталин-в-третьем-лице», к которому даже настоящий Сталин обращался с поклоном.
Хворостовский исполнял примерно такую же роль для Ельцина. Нет, он не был, конечно, в буквальном смысле ельцинским «двойником для масс». Однако какая-то связь между ними была. Об этой связи хорошо известно по сюжету «Дориана Грея» О.Уайльда. Ельцин куражился, кружился и все больше оседал, как сугроб. А его альтер эго Хворостовский пел, становился еще прекрасней и искрился снежными волосами. Теперь вот сибирского Дориана не стало. Интересно, что за этим последует.