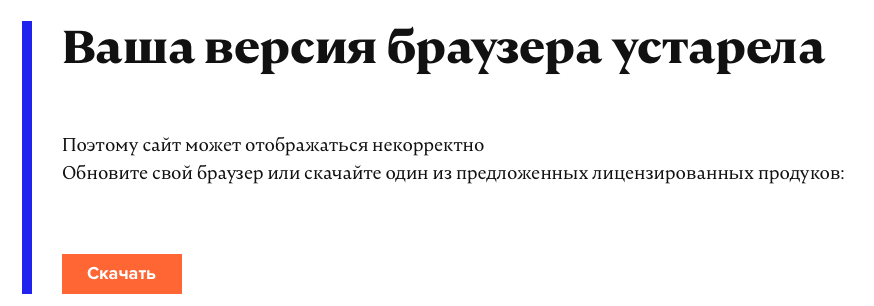Зима близко
Безногий Шумахер, слепая прядильщица и еще 48 женщин, стариков и инвалидов из Егорьевска, которых хотят превратить в беспризорников
В маленькой деревушке под Егорьевском за невысоким металлическим забором стоит двухэтажный желтый дом. Пластиковые окна, покатая синяя крыша, которая издалека тоже кажется пластиковой. Если вы не знаете, что это за место, то не обратите на него внимания и пройдете мимо. Ничего примечательного.
Простые люди в этот дом заглядывают редко. Считай, никогда.
Это место для тех, кому больше некуда идти – у кого своего дома не осталось, а жить на улице сил уже нет. Только умирать.
«Мне в больнице отрезали ногу», – рассказывает Рита. Ей за сорок. Смуглая, полная и много улыбается. Она сидит в инвалидной коляске перед самодельным станком для плетения, делает коврик из множества цветных ленточек.
«Обморожение. Это произошло зимой. А после операции на улице стало еще холоднее. Минус 25. Идти мне было некуда. Из вещей только костыли, да и те быстро бы отобрали. В таком состоянии замерзла бы насмерть».
До того, как попасть в больницу, Рита около десяти лет прожила на улице. Когда было тепло, могла спать на земле в парке. Осенью и зимой проходилось искать места понадежнее – подъезды, вокзалы, ночлежки.
«Когда на вокзалы не пускали, то приходилось спать в автобусах для бездомных, – продолжает Рита. – Прошлой зимой один раз не получилось и в автобус попасть, осталась ночевать на улице. Тогда дождь начался, я промокла вся до нитки. Потом еще и подморозило. Я так заледенела в те дни, что уже плохо понимала, что происходит. Помню, что я сидела в подъезде и буквально обнимала батарею, и ко мне подбежала собачка, маленькая такая, комнатная. Начала у ноги вертеться, видимо, почувствовала, что от нее запах пошел. Ее хозяйка мне вызывала скорую в подъезд. Врачи тогда очень быстро все сделали. Гангрена, гниль, провели операцию, спасли мне жизнь».

Для многих бездомных в России попадание в больницу – не спасение, а всего лишь отсрочка. У ампутантов, не способных работать, выбор небольшой – либо идти в «нищенское рабство» к цыганам, либо пить, потому что так легче не думать о самом страшном.
Риту спасла соседка по палате, которая рассказала ей о доме трудолюбия «Ной», где помогают бездомным. Сама она никогда не была в этом месте, но слышала о нем хорошие слова и решила поделиться знанием с Ритой. Тем самым она, возможно, спасла ей жизнь. Рита, во всяком случае, в этом убеждена.
Дом трудолюбия «Ной» (на самом деле уже – дома, по всему Подмосковью их 14) организовал один человек. Зовут его Емельян Сосинский.
До 2003 года он работал автоинструктором. Каких-то плохих и страшных вещей, способных перевернуть жизнь человека, с Эмилем (Емельяном он стал после крещения) в то время не происходило. Наоборот, все было хорошо – дом, работа, семья, деньги. Только эти вещи почему-то перестали приносить радость. Новые смыслы Эмиль пришел искать в церковь.
«Я тогда увидел цыганку с детьми на паперти, которая стояла и просила милостыню. Она пришла туда после того, как у нее повесился муж», – рассказывает мне Емельян.
Мы стоим с ним внутри одной из комнат того самого желтого дома под Егорьевском. Внутри он такой же аскетичный, как и снаружи. Все чисто и аккуратно. В комнате – три кровати с эмалированными металлическими остовами, заправленные тяжелыми коричневыми покрывалами. В углу на полочке икона Николая Угодника, на окне черный пластиковый радиоприемник.
Емельян посоветовался с духовником в церкви, куда он начал ходить, о возможности помочь женщине. Тот разрешил: «Раз сердце лежит к такой работе, то почему нет?» Но со временем Эмиль уже сам начал себя одергивать.

В храм стало приходить очень много таких бедных людей. Потому что бездомные продают информацию друг другу о том, в каких церквях можно рассчитывать на помощь. Обычно за «половинус. Говорят: «Там батюшка добрый, ты придешь, скажешь, что тебе надо – и половину мне».
Осознание того, как обстоят дела в реальности, по словам Емельяна, приходило постепенно – сначала начал просто разбираться, кому можно подавать, а кому лучше не стоит, а потом пришел к мысли, что сам по себе подход неправильный. С одной стороны, помогаешь человеку, а с другой – поддерживаешь этим его образ жизни, в котором ничего хорошего и нет.
«Поняли, что надо выдергивать людей с улицы. И начались приюты. Первые у меня появились в 2004-2005 годах. «Ной» появился в 2011 году при храме Космы и Дамиана».
Однако формально все 14 домов трудолюбия к этой организации отношения не имеют. Аренда оформлена на физических лиц. По словам Емельяна Сосинского, для них – это единственный способ выжить.
«Если сделать все на юридическое лицо, то нас моментально закроют. И чиновников не волнует, что после этого люди окажутся на улице. Они в открытую говорят: «С чего вы взяли, что наша задача помогать людям? Наша задача – разоблачать и карать».
Именно это сейчас и происходит в Егорьевске. Локальная попытка со стороны властей навести порядок – в точности по букве закона, но без оглядки на его дух.
Емельян собрал журналистов (кроме меня, приехали корреспонденты из «Радио Свободы» и двое ребят, которые снимают о «Ное» документальное кино) в Егорьевском районе Подмосковья, чтобы защититься от местных властей, которые, как он уверяет, твердо намерены выгнать обитателей дома трудолюбия со своей территории.
Обычная ситуация для «Ноя» во взаимодействии с местной властью – это доброжелательное молчание. Емельян знакомится с администрацией, рассказывает о себе, о проекте, об обитателях домов. Чиновникам вход внутрь никто не закрывает, могут прийти и убедиться, что с едой, санитарией и жилищными условиями все в порядке.
После этого власти и «Ной» друг о друге забывают. По словам Емельяна, это – лучший из всех возможных вариантов. Потому что законы связывают руки даже позитивно настроенным чиновникам.
В Егорьевске Емельян и его коллеги из «Ноя» пытались действовать по отработанной схеме. Отправились в администрацию. Там их выслушали и вроде бы даже благожелательно отнеслись. Во всяком случае, негатива не высказывали. Но потом в желтый дом начали стучаться проверяющие. То из одного ведомства, то и из другого.
«Они считают, что на территории их района мы – лишние, потому что если вдруг что-то произойдет, то это ляжет обузой на администрацию, и их заставят за это отвечать, – говорит Емельян. – Задача проверок – доказать, что у нас здесь организация, а не просто люди, которые находятся у меня в гостях. И раз вы организация, то у вас должно быть первое, второе и третье. Нет? Штраф тебе – десять миллионов. И три дня на исправление. Не исправил – отключается газ, вода, опечатываются все двери и всех людей на улицу».
Самым неприятным для «Ноя» стало то, что администрация сумела найти вариант, как заслать ревизоров внутрь.
Поняв, что на Емельяна у них надавить не получится (тот перед лицом всех проверок заявлял, что как физическое лицо имеет право не пускать их внутрь), они обратились к арендодателю. Владельцу желтого дома. На минувшей неделе направили ему письмо, где разъяснили ему его обязанность – с 23 октября по 15 ноября пускать внутрь любые проверки.
«Он их давление прочувствовал, – продолжает Емельян. – Говорит: «Когда мы с тобой договаривались, ты говорил, что людям будем помогать, церкви. А сейчас с государством конфликты. Они мне не нужны».

Одновременно с журналистами дом трудолюбия посетила и уполномоченная по правам человека в Московской области. Точно так же беседовала с обитателями, точно так же смотрела на условия.
По словам Емельяна и Елены, ответственной за социальный дом в Егорьевске, визит прошел очень хорошо. Но вот уверенности, что все непременно наладится, так и не появилось. Исключительно надежды.
В большинстве районов Московской области у сотрудников «Ноя» получалось выстроить отношения с властями, добиться того самого нейтралитета. Но был и негативный опыт: в Домодедово, где события развивались по тому же сценарию, что и в Егорьевске – на собственника жилья надавили, и он отказался продлевать аренду, и в Сергиевом Посаде, где бывший детский лагерь пытались превратить в дом трудолюбия.
«Это мог быть самый большой наш дом, – рассказывает Елена, невысокая скромная женщина, которая отвечает за обитателей дома в Егорьевске. – Замечательное место. И власти к нам неплохо относились, и Троице-Сергиева лавра помогала. Но начались проблемы с дачниками, которые почему-то решили, что мы представляем для них опасность. Была целая кампания против нас. Увидели, что ураган дерево повалил – тут же жалоба на нас, что мы деревья вырубаем. Прорвало трубу – что мы с канализацией что-то творим. Поэтому нам в итоге пришлось перебираться оттуда».
Детский лагерь в Сергиевом Посаде и желтый дом в Егорьевске роднит между собой еще и то, что сотрудники «Ноя» боятся приглашать туда много людей. Максимум 50 человек, хотя мест и там, и там намного больше.
Взять еще сколько-то – банально страшно. Если придется куда-то переезжать, то денег может просто не хватить.
«Зима – это самое тяжелое время, – говорит Емельян. – Зимой в рабочих домах нет работы. В другие времена года рабочие дома зарабатывают деньги, а социальные их тратят. Зимой и рабочие тоже начинают тратить, поэтому на эти месяцы должен быть отложен стабилизационный фонд, иначе все развалится».
Рабочие и социальные – это два разных типа трудолюбия.
Раньше «Ной» был устроен просто. В дома трудолюбия приглашали бездомных, готовых отказаться от алкоголя и трудиться. Принципы бытового обустройства были общинные. За работу бывшие бездомные получали на руки около половины суммы, а остальное сдавали на обустройство дома. Эти деньги шли на арендную плату, покупку еды и приятных бытовых вещиц, вроде телевизоров и столов для настольного тенниса. Они же служили стартовым капиталом для открытия новых домов.
Но потом к рабочим приютам добавились еще и социальные, в которых брали инвалидов, стариков, женщин с маленькими детьми. Их на самоокупаемость вывести невозможно.
«Рабочие дома тратят деньги на содержание социальных домов, — говорит Емельян и объясняет, как именно устроена система оплаты труда. — Есть дома, где люди получают 40% заработанного, есть – где 45%, зависит от того, постоянная ли работа. Если человек полгода провел без залетов – 50%, год без залетов – 60%. За любые переработки и работу в выходные дни получают все заработанное целиком».
Сейчас по всей системе домов трудолюбия живут и работают около 800 человек. В девяти рабочих домах и пяти социальных. Но последние сами по себе больше, и получается, что соотношение по обитателям примерно – 45 на 55 в пользу женщин, стариков и инвалидов.

По словам Сосинского, при приеме в дом трудолюбия не смотрят на то, кто человек по вероисповеданию – православный, буддист или мусульманин. Главное – соблюдать правила: не пить, не колоться, трудиться, не ругаться, не драться. Если обзываются – это штраф.
«Если начинают ругаться, то сразу выгоняем. Приходится все контролировать. Потому что это разные люди с совершенно разным прошлым, и если допустить шатание дисциплины, то все это может превратиться в притон».
На веру в домах трудолюбия опирается очень многое. Принципы внутреннего устройства взяты из Евангелия, в комнатах обитателей – в какую ни загляни – повсюду иконы и образы. Конечно, где-то больше, где-то меньше, не без этого. Многие обитатели домов, до того как попасть в «Ной», жили в монастырях или просили милостыню у храмов.
Но при этом отношения с РПЦ у домов трудолюбия если не тяжелые, то, скажем так, неоднозначные.
«В церквях к нам отношение разное, – признается Емельян. – У нас к храмам всегда была одна главная просьба – приходить к нам с духовными беседами. А мы бы им помогали по территории. Очень часто отвечали так: «Если будет благословение верховного архиерея, тогда я к вам буду ходить. Если нет, то нет».
Это не слишком сложное условие в «Ное» выполнили. Отправили письмо патриаршему наместнику Московской епархии митрополиту Ювеналию. И он ответил. Правда, не письменно, а устно – через своего секретаря.
«Нам сказали, что русская православная церковь – это не секта, которая ходит по домам и ищет адептов, что храмы всегда открыты, и кто хочет, тот всегда сможет прийти. Получается, благословения не дал, – делает вывод Емельян. – И теперь настоятели решают сами. Был один, который сказал: «Чтобы идти со словом Божьим к людям, мне не нужно архиерейское благословение».
Я спрашиваю имя, но получаю отказ: нельзя – у него потом проблемы будут.
Есть и другие священники и дьяконы, которые тоже приходят. Но есть и те, что не хотят – они требуют благословения.
Мне интересно, насколько общение со священнослужителями помогает обитателям домов. Выбирает ли кто-то для себя путь служения Богу.
«Да, один человек даже монахом стал, фотографию нам прислал, – отвечает Емельян. – Но не надо идеализировать жизнь на улице, она к Богу не приближает. Я, например, знаю, что очень часто, когда меня человек спрашивает, будете ли вы меня в воскресенье в храм отпускать, это означает, что он будет на паперти там стоять. Он не идет туда на службу, цель – совершенно другая. Поэтому идеализировать бездомных не надо».
По словам Емельяна, на паперти человек за один день зарабатывает примерно столько, сколько в рабочем доме за неделю.
«В принципе, мы не против того, чтобы человек, честно отработав всю неделю, в воскресенье вышел на паперть, – продолжает он. – Но проблема в том, что большинство из них – алкоголики и, получив эти деньги, не могут не выпить, и на этом все заканчивается».

Может показаться странным, но один из главных союзников «Ноя» в череде бытовых проблем – это участковые уполномоченные.
«У нас хорошо сложились отношения с полицией, – говорит Емельян. – Начиная с 2014 года, когда один из генералов пошел нам навстречу. Реально начал помогать».
Я интересуюсь у него именем правоохранителя и тем, как получилось наладить отношения в той системе, к которой различного рода активисты относятся, мягко говоря, с недоверием.
«Генерал-лейтенант Валяев, – отвечает Емельян. Здесь тот случай, когда имен скрывать не надо. – Он отвечает за участковых по всей России. Мы много раз писали в МВД, но без особых результатов. Но тут я попал к нему на личный прием, рассказал, кто мы и что мы. Нас начали трясти, проверять, но убедились, что во всех домах все в порядке. Договорились, что пускаем к себе участковых всегда и везде, они могут всех фотографировать, дактилоскопировать, чтобы у нас никто из беглых преступников не укрылся. И с того момента началось хорошее сотрудничество с полицией».
С одним из главных бичей бездомных – нищенской мафией – серьезных конфликтов тоже не возникало.
Борьба идет на другом фронте – за потенциальных обитателей трудовых домов.
«Не так много людей на улицах осталось, – говорит Сосинкий. – В основном это инвалиды, женщины и дети. Все работоспособные люди разобраны под ноль. Сейчас пятьсот или шестьсот организаций, которые их берут к себе на проживание с работой. В этой сфере развернулась настоящая конкурентная борьба за тех, кто способен трудиться. Стариков и детей, разумеется, никто брать не собирается. Для того чтобы переманить у нас людей, некоторые организации разрешили им выпивать после работы».
По мнению Емельяна, в самой конкуренции ничего плохо нет – чем больше социально направленного бизнеса, тем лучше. Но вот послабления в части алкоголя – зло.
«Когда мы человека берем к себе, то говорим, что он должен не только не пить, но и обязательно чем-нибудь заниматься, – напоминает он и про второй принцип «Ноя»: не только трезвость, но и труд. – Старики, женщины с детьми – тоже. Можно мастерить какие-либо поделки, в одном из домов у нас есть своя мини-ферма. Из глины разные вещицы делают, подметают, убирают, шьют. Потому что если не работать, любой человек очень быстро теряет свой человеческий облик, деградирует по полной программе».

После разговора с Емельяном отправляюсь в самостоятельный поход по дому трудолюбия.
Он чем-то напоминает хостел, в которых любят останавливаться небогатые путешественники. Такие же небольшие комнаты, где кровати стоят вплотную друг к другу, так же много перемещений из одного конца дома в другой, затеряться и остаться одному здесь практически невозможно, и очень похожая атмосфера – все люди разные, но ищут между собой точки соприкосновения.
Поднимаюсь по крутой лестнице на второй этаж.
В коридорах здесь куда меньше света, поэтому двери в комнаты выглядят словно ворота в другие миры. Некоторые обитаемы: в одних сотрудники «Ноя» что-то рассказывают коллегам из «Свободы», в других постояльцы дома переживают нашествие чужаков.
Наверное, это не совсем вежливо – входить в чужое жилище в отсутствие хозяев, поэтому пытаюсь отыскать компромисс – заглядываю, но порог не переступаю.
Внутри все почти так же, как внизу, где мы говорили с Емельяном. Разве что побольше всяких мелких вещиц, которые добавляют красок обстановке: на кроватях тут лежат желто-рыжие подушки в виде счастливого солнышка, вместо покрывала – плед в шотландскую клеточку, на столе – большая банка с водой, как те, которые в девяностые годы заряжал Алан Чумак, на окне – два неизвестных мне растения, довольно крупные, и один маленький кактус.
Вернувшись на первый этаж, знакомлюсь там с бодрым дедушкой в синей толстовке – в очках и с бородой. Он мне напоминает персонажа одного из советских фильмов. Пытаюсь вспомнить, но никак не получается. Кажется, из «Сказки о потерянном времени», но там старики были вредные, а мой новый знакомый – наоборот, душа нараспашку.
Его зовут Сергеем. Отчество я почему-то не догадался спросить.
Он любит повторять фразу «Руки есть, голова есть» и вспоминать гонки Формулы-1, чем окончательно меня подкупает.
«Я тут живу с 1 июня, – говорит Сергей. Речь у него негромкая, но очень быстрая. Почти скороговоркой. – Сам из Вологды. На улице я еще с 2000-го. Ну, как на улице? Если где работал, там и жил. Руки есть, голова есть. Много чего делал. Водителем был, каменщиком, сварщиком, плиточником, резчиком. Бывало, за 15 дней по 100 долларов зарабатывал. Очень хорошие деньги. Если на улицу вернусь – выживу, руки есть. Но надоело это все – водка и только водка. А здесь хорошо, и работа есть. Пойдем, я тебе Шумахера покажу».
Сергей поднимается с диванчика перед входной дверью, где мы было устроились, и ведет меня в мастерскую. По пути интересуется, как называется поворот, в котором разбился Айртон Сенна. Я признаюсь, что не помню. Знаю только, что в Имоле.
В мастерской два рабочих места. Одно – Сергея, там лежат фигурки гномиков и ангелов и стоят кисти с красками. За другим сидит инвалид-колясочкник с черными усами и перебитым носом. Именно его в желтом доме называют Шумахером.

Он часто шутит, когда мы с Сергеем пытаемся его втянуть в беседу, и тихо ругается, когда дубовая стружка для декоративной панели ложится не совсем аккуратно. Настоящее имя Шумахера – Олег. К прошлой, уличной жизни он относится не в пример многим легко.
«Тут хорошо, тепло, – рассказывает Шумахер, намазывая густым белым клеем край доски, куда будут крепиться кусочки дубовой стружки. – На улице самое главное было зиму пережить. Я как делал? Только зима наступает: «Цыгане, komm zu mir! Идите сюда». А как лето наступало, я от них сразу линяю. Ну, пока у них был, что насобираю – половину им отслюнявлю, остальное себе».
Спрашиваю про обстановку в цыганских домах. Там самый цвет нищенской мафии, как-никак.
«Дома? Какие там дома?! Такие же бомжи, только с документами. Хорошо хоть тепло было».
Кроме колясочников, таких как Олег и Рита, и людей с черепно-мозговыми травмами (это уже Сергей: «В 2011-м году, когда Шатура горела, я упал – бутылка пива в правой руке уцелела, а слева все отбил, и мозжечок повредился – с головой все в порядке, соображаю, но далеко мне ходить нельзя, потеряться могу»), есть в доме трудолюбия и те, кому на улице будет совсем плохо.
Это инвалиды по зрению – Алексей, он не видит совсем ничего, и Нина, которая различает только контуры предметов. Они, как Рита, занимаются плетением ковриков. Их потом продают на церковных ярмарках.
«Плетем сначала косичку, а потом вот такие вещички – коврики, прихваточки, – Нина, пожилая женщина с седыми, подкрашенными в желтый цвет волосами, показывает, как она из ленточек сооружает косичку. – Все на ощупь. – Со зрением у меня проблемы почти год – катаракта. Сначала один глаз плохо видеть стал, потом второй. Я тогда ездила по монастырям, была на послушании, когда все случилось. Вернулась в Москву, обратилась в центр в Люблино. И мне подсказали, что Емельян помогает людям, которые попадают в сложные обстоятельства».
Большую часть жизни Нина провела на Камчатке. Окончила ДВГУ, биологический факультет. А в начале «нулевых» очутилась в Москве. Как говорит, по семейным обстоятельствам. У нее были небольшие накопления: часть денег уходила на аренду квартиры, часть – на небольшой бизнес.
«Работала на Белорусском вокзале, у меня там было свое кафе на первой платформе и магазинчик – на шестой, – рассказывает Нина, перебирая в руках то ленточки, то нитки. – Снимала их по договору субаренды. Плату постепенно стали задирать, а оборудование все было старое – ломалось то и дело. Стало невыгодно, вот я и ушла.

Потом, когда деньги кончились окончательно, Нина отправилась в поход по монастырям.
«Я в трех монастырях была», – говорит она.
Когда я спрашиваю, зачем было перебираться из одного места в другое, объясняет: «Хотелось познать что-то новое. В одном тебе нравится больше, в другом меньше. Не везде хорошо. Например, даже бывало такое, что монашки дрались между собой. Не послушницы, а монашки. Почему? Там, где есть служебная лестница, там всегда будут пакости. От этого ведь условия работы зависят, от того, какое ты место занимаешь. Ну, и женская психология тоже. Но я, честно говоря, не думала, что такие вещи могут быть. Последний монастырь, в котором была, — в Нижегородской области. Туда приезжаешь, там есть специальный пункт, где говоришь: «Хочу пожить у вас, поработать». Еда бесплатная, жилье бесплатное. Работа, правда, тяжелая. Питание постное, зато четыре раза в день».
Вспоминаю место в Москве, которое упомянула Нина в начале разговора – Люблино. Про него мне и Сергей тоже рассказывал. Оттуда он попал в дом трудолюбия.
«В Люблино собирают бездомных со всей Москвы, – объясняет мне Нина. – Там два помещения. С одной стороны – ночлежка, ночью туда социальные патрули привозят людей, которым негде ночевать, а утром все уходят. Так каждый день. Напротив стоит другое здание, в котором я провела две недели, анализы делала. Это что-то вроде гостиницы, но берут туда либо москвичей, либо тех, кого готовятся отправить в какой-то другой регион. Там ужасно: двухъярусные кровати, обтянутые полиэтиленом, раз в сутки дают или картошку «Ролтон», или лапшу, там и клопы, и запахи, все, что хотите. На первом этаже – инвалиды, у которых гноятся раны и текут», — описывая центр в Люблино, Нина то и дело вставляет слово «ужас». «Здесь мы, как в раю», – признается она.
Я вспоминаю историю с монастырем и интересуюсь, не бывает ли внутри дома конфликтов.
«Вы слышали такое выражение, что северяне – другие люди, нет? – спрашивает Нина. Я качаю головой. – Дальневосточники, северяне – они немного другие. Возьмите Камчатку – такая отдаленность, что если не будешь ни с кем дружить, не будет у тебя товарищей и не будет никакой помощи. Поэтому люди меняются, они больше друг друга понимают. Тут так же. Сюда тоже попадают люди с тяжелым жизненным опытом, и здесь они душой отогреваются. И меняются, а иначе просто никак не получится».
Из-под Егорьевская я уезжал уже ближе к вечеру. Успел познакомиться еще с несколькими обитателями дома, подружился с щенком маламута, который должен охранять двор, но пока что предпочитает играть с незнакомцами, попробовал обед, который приготовили для бывших бездомных – большую порцию чечевичного супа и бутерброды с колбасой.
Самый частый вопрос, который мне приходилось слышать от бывших бездомных, как легко догадаться: «Получится ли повлиять на власти?»
Все, что я мог сказать: «Я не знаю, но надеюсь, получится».
Не знаю и до сих пор.